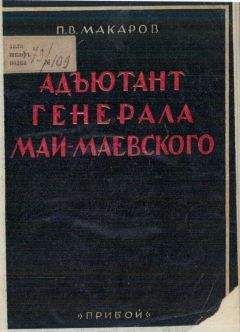Катя сама разожгла огонь в очаге. Когда пламя занялось и лизнуло ее руки, она даже не отпрянула от огня. Ей нарочно хотелось обжечься. Она хотела почувствовать хоть что-нибудь – боль, например. Она была как ватная, будто погруженная в пьянящий спиртовый раствор; она ничего не чувствовала, все было словно заволокнуто туманной сизой пеленой.
– Каточек, ты что, миленькая, спишь на ходу?..
– Нет, Триша, Господь с тобой… Я… чайник вот хочу на огонь поставить, чаю с тобою заварим свежего…
Трифон принес воды. Вскорости чайник заворчал, запел на огне. Катя задремала. Она не слышала, как Семенов подходит и осторожно снимает медный прокопченный чайник с огня, как выходит из юрты за хворостом. В ее ушах звенела тонкая далекая мелодия, будто тибетские колокольчики оранжевых лам нежно, мучительно вызванивали: цзанг-донг, цзанг-донг.
……………….цзанг-донг, цзанг-донг. И тишина. И в полной тишине голос монаха говорит по-тибетски, а она понимает все, как если бы он говорил по-русски:
«Вы будете отвержены от лица Моего, если захотите уберечься от того, что вам суждено. Вы не властны над своею судьбой. Придите и отдайтесь».
Высокие фигуры в оранжевом, вишневом, черном, ярко-солнечно-желтом тесно обступили ее, лежащую на земле. Она почувствовала, как ее подхватили грубые, крепкие мужские руки. Подняли высоко. Над ее лицом вознесся, вспыхнул лезвием на солнце нож. Нож оказался у ее горла. Она закрыла глаза и хотела было закричать: умираю, режут, спасите! – а чужая рука оттянула у горла ткань, и нож легко, будто вошел в масло, разрезал ее платье у горловины и вспорол материю от ключиц до пупка, и сильные руки раздернули одеяние в стороны. Она оказалась голая перед монахами. Руки, руки, много рук зашарили по ее телу, стали прикасаться к ее освобожденной голой коже, чьи-то пальцы больно сжали ее соски, и она застонала. Чьи-то руки раздвинули ее ноги – или это она сама раздвинула их? Она напрасно изгибалась и вырывалась. Ей больно, властно сжали запястья, сухая, пропахшая сандалом ладонь легла на ее рот. Она поняла: надо покориться. Сначала мужская рука грубо, бесцеремонно и вместе с тем любопытственно и искусно ощупала вход в ее женское святилище; она почувствовала, как горячие пальцы расталкивают, раздвигают нежные складки влажной кожи, втискиваются все глубже, вот уже вся рука монаха там, внутри нее, а кончик его пальца коснулся чего-то невыносимо нежного глубоко в ней, отчего она дернулась, выгибаясь, и попыталась закричать, но чужая рука плотнее легла ей на губы, втиснулась в зубы, и она захлебнулась собственным стоном. Сухая костлявая рука задвигалась в ней, палец по-прежнему упирался в средоточие неведомого ей еще наслаждения, и руки поддерживали ее под поясницу, пока ее тело выгибалось и корчилось в сладких судорогах. Потом монах выдернул руку. Не успела она перевести дух, как в низ ее живота уперлось твердое, железно-горячее, колени ее растащили в стороны, шире, еще одним сильным рывком, и тот, кто стоял над ней, одним резким, мощным ударом вошел в нее, исторгнув из ее груди сдавленный хриплый стон и сам вскрикнув коротко, военным кличем.
Вошел и замер. Остановился. Ждал. Ждал, пока она поймет, что он весь, огромный, будто сработанный из раскаленной стали, пребывает в ней; пока она обнимет его мышцами, жаждущими и томящимися, там, внутри. И, дождавшись, когда она, потрясенная, сжала его, будто в кулаке, внутри себя, он медленно и неумолимо двинулся вперед.
Движение вперед. Еще движенье. Монах, грубо вошедший в нее, двигался в ней вперед, как летящая в бредовом сне стрела, прорезая ее, прокалывая ее, насаживая ее на себя, неуклонно и нежно, медленно и осторожно. Край! Нет, еще глубже. Пусти! Она дернулась всем телом в крепко держащих ее руках. Нет, я войду в тебя еще глубже. Он слегка приподнялся над ней, распятой, как рыба, на чужих руках, и сильно, безжалостно толкнул ее всаженным в нее живым острием – так, что невозможная боль смешалась с блаженством такой силы, что она чуть не потеряла разум. Размах. Толчок. Еще взмах. Еще толчок. Она задыхалась. Крепкая костистая рука, пахнущая сандалом, врезалась, влеплялась ей в рот, в зубы. Она укусила ее. А копье все вонзалось в нее, и она перестала считать удары. Руки, держащие ее, двигали, подавали ее навстречу вонзающемуся в нее мужчине, насаживали ее на него, как цыпленка на вертел. И тот, кто так яростно бился в ней, бил в нее, как в бубен, похоже, не хотел прекращать начатое. Боль и радость росли в ней и затопляли ее. Она чувствовала себя уже частью этого беспощадного монаха. Уже его рукой. Ногой. Его животом. Его…
Наступил миг, когда она и вправду ощутила себя орудием той сладкой пытки, которою пытали ее. Ее больше не было. Был только он и то, что он ей причинял. Теряя сознание, она превращалась в свое наслажденье. Она содрогалась в неистовых судорогах, а монах все не прекращал двигаться в ней. Она потеряла счет времени. Все заволокло сладкой безграничной, нескончаемой тьмой. Когда она уже была без чувств, монах, наконец, излился в нее, неподвижно лежавшую на руках собратьев, огласив окрестность хриплым неистовым криком.
Она открыла глаза. Боже, Господи Иисусе Христе, она очнулась.
Глаза обводили окоем. Снег! Всюду мерцал, искрился снег. Она лежала у входа в чью-то палатку. Боже мой, Боже… Как же холодно… Боже, сколько же времени она тут пролежала?!.. без тулупчика, просто в домашней курме… в меховых сапожках на босу ногу…
Катя поднялась на корточки. Уперлась руками в рассыпчатый сухой снег, наметенный за вечер. Он алмазно искрился в свете Луны. Зимняя монгольская Луна стояла высоко в зените, глядела на притихшую степь, будто огромный глаз неведомого зверя. Катины колени холодил снег, она непонимающе, с ужасом смотрела на туго застегнутую, завязанную тесемками дверь палатки. Господи, чья это палатка?! Она же никогда здесь не была… Нет, кажется, она узнает это место…
Как она сюда попала?
Она сюда прибежала… во сне?!.. наяву…
Когда?.. зачем…
Катя, с трудом поднявшись с корточек, оправив на себе вздернутую полу курмы, прикоснулась замерзшей рукой к грязной ткани палатки Николы Рыбакова и Осипа Фуфачева. Никола и Осип теперь поселились вместе. Такую честь им оказали – ловить врага! Из палатки доносился зычный храп. Катя провела рукой по лбу. Ее шатнуло в сторону. Она непроизвольно опустила руку и пощупала себе низ живота – цела ли, не изнасиловал ли тут кто ее, приняв за пьяную, – здесь, у палатки солдат?! Она чувствовала – все влажно, мокро у нее между ног. Голова ее кружилась. Зубы стучали. «Может, я и впрямь сошла с ума?.. как мать…»
Ее еще, еще качнуло вбок. Она взмахнула руками, падая. Удержаться на ногах! Нет, ты не удержишься, Катерина, ты… Она приоткрыла рот. Показала звездам кончик языка. Да, она сходила с ума, в этом не было сомнения. Колесо, колесо сансары крутилось, кружилось, жужжало в ее голове.
Она, держа себя руками за живот, надсадно, умалишенно крикнула:
– Я ненавижу!
Помолчала. Огляделась. Лагерь спал. Стояла глубокая ночь. Где Семенов?! Он же хотел принести хворост для жаровни… она помнит… Это – она еще – помнит… Почему он не искал ее?! Почему он… плюнул на нее?!
«Можно кричать, можно, выкричись, облегчись, видишь, никто не идет за тобою», – сказал внутри нее ехидный, тоненький голосок. И, набрав в грудь воздуху, она закричала, и уже кричала, не останавливаясь, закинув голову, раскинув руки, глядя полными слез глазами на равнодушные звезды над головой:
– Я ненавижу здесь все! Я ненавижу Восток! Я ненавижу ваши степи! Вашу полынь! Ваших верблюдов! Ваши вонючие юрты! Вашего жирного Будду! Вашего жирягу, хищника Будду ненавижу я! Я плюю на вас, отродья! Исчадья ада! Собаки! Собаки! Соба…
Она не докричала. Захлебнулась криком. Упала на снег.
Уже не помнила, не видела ничего.
* * *
Потрогать маленького Будду за нос. Он же еще младенчик. Это Будда, который только что родился. Мать родила его только что, и он еще царевич Гаутама. Еще все кидают подарки к его ногам, закармливают его сладостями, купают в молоке, заваливают роскошествами, увенчивают алмазами и рубинами. Еще ему, малышу, кажется – весь мир принадлежит ему. Ты, глупенький Гаутама, ты же еще не знаешь, что ты станешь великим аскетом Буддой. Что ты выучишь и вскормишь палестинского Иссу там, высоко, в Гималаях.
Ташур, улыбаясь, еще раз погладил крошечную нефритовую статуэтку младенца Будды по зеленому нефритовому носу. Он знал: не у всех монголов есть такие вот статуэтки – малыша Будды. Царевич Гаутама, сладостный Сиддхартха, отшельник Шакьямуни, обычно изображался мастерами уже зрелым, мудро улыбающимся, сидящим в позе лотоса, положив спокойные руки на раздвинутые колени: изображался владыкой – он, нищий, проповедовавший в рваном плаще под деревом при дороге. А тогда, когда он действительно был владыкой полумира, он беспомощно барахтался в кроватке с позолоченными шишечками. Ташур потрогал пальцем прохладную нефритовую щечку статуэтки. А улыбка-то такая же, как у взрослого… у мудреца.