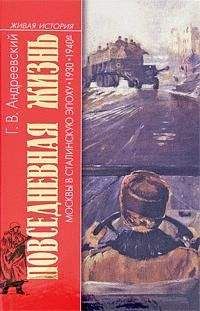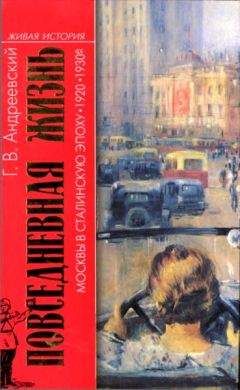Власти города советом рационализатора не воспользовались и, наверное, правильно сделали.
Вообще перечислять все советы, жалобы и претензии, с которыми москвичи обращались в газеты, которые заносились в жалобные книги, поступали в контролирующие и руководящие органы, просто невозможно. Нельзя объять необъятное. А вот на что действительно следует обратить внимание, так это на раздел газетных объявлений. В этом разделе меньше, чем в других, поработал редактор, здесь нет фантазий, псевдонимов и неискренности.
Из объявлений военного времени мы узнаём, например, о том, что в январе 1942 года в бомбоубежище дома 6 по Петровке открылся филиал детской библиотеки имени Герцена. Что одна из артелей весной 1942 года наладила выпуск серебряных портсигаров с выгравированными на крышках самолетами и танками. Что в мае 1943-го дровяная база в Тестовском поселке бесплатно отпускала организациям шлак, кору и щепу, а швейная фабрика «Ширпотреб» стала принимать заказы на изготовление кукол из материала заказчика и из «мерного лоскута» шить детские коврики, дамские блузки и скатерти, что киностудия «Мосфильм» приглашала желающих сниматься в массовках. Для этого нужны были только паспорт и две фотокарточки.
Из объявлений в газетах можно также узнать об открытии в июне 1943 года в ЦПКиО имени Горького выставки трофейного оружия и о том, что билет на эту выставку стоит рубль, а для красноармейцев, краснофлотцев, инвалидов Отечественной войны и детей – двадцать копеек, и о многом, многом другом. Например, о том, что идет в театрах, большинство из которых в том же 1943 году вернулось из эвакуации в Москву. Объявления о цирковых представлениях сообщали москвичам о трюке с восхождением по наклонному канату под купол цирка всадника на лошади, а объявления о новых фильмах предупреждали о том, что начиная с 28 февраля 1944 года в кинотеатрах «Метрополь», «Хроника», «Наука и знание» и «Динамо» пойдет фильм «Трагедия в Катынском лесу». «Кинодокумент, – как писала газета, – о чудовищных злодеяниях, совершенных гитлеровскими извергами над военнопленными польскими офицерами в Катынском лесу».
Признаки нормальной человеческой жизни в городе появились, конечно, не в 1943 году, а гораздо раньше.
Не успела наша армия разбить под Москвой немцев, как в городе заработали катки: «Динамо» на Петровке и «Спартак» на Патриарших (Пионерских) прудах. Этот каток, надо сказать, еще до революции являлся центром конькобежного спорта в России. Теперь же, в войну, на нем стали устраиваться хоккейные матчи на первенство столицы. Играли тогда в хоккей в Москве не только мужчины, но и женщины. Болельщики мерзли на открытых трибунах. Бедность не позволяла нам строить закрытые стадионы. Все заботы по устройству спортивных сооружений взяла на себя природа.
Из-за отсутствия бассейнов плавали в Москва-реке. В конце войны, да и первое время после, плавали от Зеленого театра ЦПКиО имени Горького до Каменного моста или станции «Водники». Женщины – километр, мужчины – два.
Прошли две страшные военные зимы, миновали воздушные тревоги, бомбежки, и Москва стала приходить в себя. 22 мая 1943 года открылся сад «Эрмитаж» в Каретном Ряду. Тир, читальня, оперетта «Свадьба в Малиновке», концерт с участием Утесова, Райкина, Рознера ждали его посетителей. Москвичи снова заговорили о спектаклях, кинофильмах, матчах и других, обычных для мирной жизни, вещах.
Интеллектуальная и культурная жизнь Москвы этим, конечно, не ограничивалась. Московские писатели, поэты, композиторы осмысливали события последних лет.
Летом 1943 года в журнале «Знамя» появилось стихотворение Ильи Сельвинского «Русская душа». В произведении описывалось, как поэт пил водку за то, что война дала ему возможность обладать девушкой с Кубани. Критик, зная, какие у нас на Кубани девушки, позавидовал поэту и, не сдержавшись, вцепился в него всеми своими вставными зубами. Он упрекал поэта во всех смертных грехах и, в частности, в том, что тот даже не извинился перед читателями за свой эгоизм, хотя знал, какую высокую цену заплатила страна за полученное им на Кубани удовольствие.
Стихотворение Николая Асеева «Вражда» было запрещено цензурой, так как в нем утверждалось, что ненависть к врагу преходяща и что, только избавившись от нее, мы снова сможем стать людьми. Вот что писал поэт:
Насилие родит насилие, и ложь умножает ложь.
Когда нас берут за горло – естественно взяться за нож.
Но нож называть святыней и, вглядываясь в лезвие,
Начать находить отныне лишь в нем отраженье свое, —
Нет, этого я не сумею, и этого я не смогу,
От ярости онемею, но яростью не солгу!
У всех, увлеченных боем, надежда живет в любом.
Мы руки от крови отмоем и грязь от лица отскребем.
И станем опять, как прежде, не в ярости до кости,
И этой большой надежде на смертный рубеж вести!
В книге Асеева, озаглавленной «Годы грома», есть и другие, не понравившиеся цензуре, строки. Например, такие:
Так и всех умчат отсюда,
Смоют с берега дожди —
Вековечная простуда
Человеческой вражды.
Призывы к гуманизму, возмущение жестокостью войны тогда не всем были понятны, и в ЦК на них смотрели косо.
Не пропустила цензура такие строки Асеева как, например: «Одно в мозгу: домой в Москву» или «И день горит огнем обид на лицах людей из очередей». В них усмотрели формализм.
Известно ведь, что поэт не может устоять перед рифмой, как пьяница перед рюмкой водки. В ЦК ВКП(б) этого не понимали и все воспринимали всерьез.
И все же это мелочи. А главным было то, что в конце войны из запретного небытия к русским людям стали возвращаться имена и произведения, о которых они еще недавно и мечтать не смели. Как-то в прессе Рахманинов был назван «глубоко национальным композитором», а со сценических подмостков прозвучало не только «Боже, царя храни» в симфонической поэме Чайковского «1812 год», которое до этого заменяли глинковским «Славься!», но и кантата Танеева «Иоанн Дамаскин» на слова Алексея Константиновича Толстого.
В 1944 году в Москве произошло событие, о котором московские газеты даже писать боялись. В столицу прибыл из эмиграции Александр Николаевич Вертинский.
Парижские же «Русские ведомости» писали по этому поводу следующее: «Из Шанхая в Москву вернулся Вертинский… Он привез в дар Красной армии вагон с медикаментами и пятнадцать тысяч долларов… Первый концерт в Политехническом музее не состоялся из-за наплыва публики. Пришлось остановить трамвайное движение и вызвать конную милицию. Концерт состоялся в марте 1944 года в клубе имени Ленина на Красной Пресне».
По поводу выступлений Александра Николаевича работник ЦК ВКП(б) Леонтьева составила на имя первого секретаря Московского горкома партии Щербакова специальную справку, озаглавив ее так: «О некоторых фактах нездоровых явлений и вывихов в области идеологии». В справке отмечалось, что в связи с приездом Вертинского вокруг него различными «дельцами» была создана обстановка ажиотажа, «которая привела к тому, что публика повсюду устраивает ему исключительный прием, причем как устроители, так и зрители, забывают, что перед ними выступает бывший белый эмигрант, что обязывает к необходимой сдержанности… Концерт Вертинского, – писала далее Леонтьева, – был устроен в Центральном доме Красной армии. В зрительном зале находились генералы и старший командный состав Московского гарнизона и центральных управлений. Появление Вертинского на сцене было встречено бурной овацией. После исполнения номеров эта овация неизменно повторялась. Восторженный прием Вертинскому был оказан в Доме ученых и в клубе НКО (Наркомата обороны). В связи с этими концертами в букинистических магазинах Москвы оказались проданными все ноты с романсами Вертинского, которые лежали там в течение двадцати пяти лет. В кругах учащейся молодежи, особенно театральных учебных заведений, обнаружены программки с перечислением всех песенок, исполняемых Вертинским… отдельные его песенки упаднические».
И все-таки с известным артистом приходилось мириться. Его любили. Любили даже те, кто был бесконечно далек от всяких салонных изысков. Их не смущали ни его манеры, ни его грассирование. Его любили за то, что он мог донести до каждого сердца простые и искренние слова любви к измученной Родине, к женщине, ко всему, что дорого и близко простому русскому человеку. Любопытно, что во время концерта, на глазах публики, Вертинский из белого превращался в красного. Выходил он на сцену с лицом, обсыпанным пудрой, белый как смерть, но постепенно пудра осыпалась, певец розовел, а в конце концерта у него уже блестели глаза, и щеки горели алым румянцем. Дело в том, что за кулисами, куда он время от времени удалялся, ждала его бутылочка коньячка, к которой он и прикладывался.
Работники идеологического фронта следили за деятельностью знаменитостей с особым вниманием. Это и понятно: ведь каждое сказанное ими слово разносилось по всей стране и даже дальше.