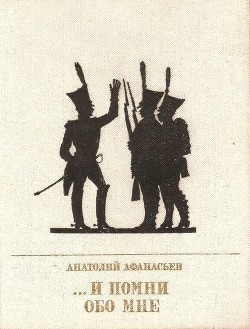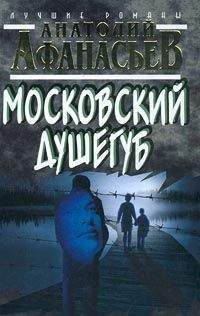— Дяденька, пощади, не убивай! Маменька помирает, пятеро мальцов на мне, с голоду пухнут! Пощади, Христа ради! Взять у меня нечего!
Это уж сам Аксентий рассказывал Сухинову, как он мальчишку пожалел. Как тот стоял перед ним на коленях, бледный, худой, кровью омытый, — ну чисто ангел небесный.
— До того мне его жалко стало, сказать не могу, — вспоминал Копна с какой-то чудной усмешкой. — Поверишь, оплел он меня, вижу лик его светлый струится в тумане и слышу как бы в отдалении колокольный звон. Вот как, Иван! Я кистень в кусты швырнул и прочь побежал без оглядки.
— И многих людей ты жизни лишил? — спросил Сухинов.
— Вот только тех двоих, боле никого.
— Но как же можно убивать ни за что?
— Ты же на войне убивал?
— То на войне, не равняй.
— Почему не равняй, у вас своя война, у нас своя.
— У кого это у вас?
На опухшей морде Аксентия проступила снисходительная улыбка.
— Да ты же хошь и в оковах, а все барин. Где тебе понять.
— Объясни, может, и пойму.
Копна объяснять не стал. Каждый разговор с Сухиновым он обрывал внезапно, и уж если замолкал, то расшевелить его было невозможно. Он замолкал прочно, как дверь досками заколачивал. Мог молчать по дню, по два, по три. Ни на какие слова не откликался, а если ему что нужно было, объяснялся знаками. Взор его становился бессмысленным и пустым, точно глазницы поворачивались вовнутрь, Что-то у него там внутри было больное, неизбывное. Но наступала минута, и Аксентий снова становился доступен общению и приветлив. К замыслам Суханова о побеге отнесся одобрительно. Он считал, что бежать можно отовсюду, были бы надежные товарищи.
— Подумаешь — тыщи верст глухомани! Пускай этим мальцов пугают. Нашему брату не привыкать по лесным тропам красться. Погоди, Ваня, если к одному месту приткнут, вместе и уйдем. Мне на каторге долго задерживаться не с руки. Подберем еще парочку мужиков, кого покрепче, да хоть одного надо, чтобы дорогу знал, — и айда.
— А были такие случаи, чтобы удачно убегали?
— Сплошь и рядом. Больно охота заживо гнить.
— Сам-то ты видел кого-нибудь, кто оттуда ушел?
Аксентий поморщился, ему не нравилось, когда мечту разрушали требованием подробностей.
— Сам не видел, а от людей слыхал. И бегут, и живут припеваючи. Я-то туда, как и ты, первый раз, а вот старая затычка дед Андреев многое про это знает. Ты у него полюбопытствуй.
— Спрашивал, молчит.
— Значит, не доверяет. Хитрая стерва! По нем не каторга, по нем петля истосковалась. Моя бы воля, я бы его сам к ногтю приставил!
— За что так?
— Не люблю, которые с подвохом. Он тебя в глаза целует, а в брюхо нож пихает. Знаю я таких.
Потихоньку занималась весна. Идти стало бодрее. Тем более что, чем дальше они удалялись от Москвы, тем лучше были условия этапа. Помещения для ночевок почище и попросторнее, кормили посытнее. Вместо обыкновенного поросячьего месива иногда давали кулеш с кусочками рыбы, спитым чаем поили по воскресеньям. Да и жители в тех местах иной раз угощали ссыльных то пирогами, то табаком. Надзор стал повольготней. Распускались в сердцах робкие ростки надежды, угрюмость покидала лица. Поминали тех, кто не одолел первых, самых трудных, студеных верст, околел от холода, от болезней. Тех, кого закапывали на обочинах, как скот.
В апреле начал помирать старик Андреев. На переправе он застудил спину ледяной водой, ковылял еле-еле, поминутно заходясь кашлем и сплевывая на вязкую землю розовую пену. Сухинов помогал ему идти, поддерживал, иные версты чуть не на себе тащил. Но он видел, что старик угасает от шага к шагу. И Андреев не заблуждался на свой счет.
— Ну вот и отмаялся я, Ваня, слава богу, — говорил он в перерывах между кашлем. — Думал до места добраться, чтобы в спокое отойти, да не привелось.
Старик умер ясной весенней ночью в этапном бараке. Незадолго перед тем, как отбыть, попросил у Сухинова табачку, но сам свернуть цигарку не смог, сил не хватило. Сухинов дал ему зажженную. Старик аппетитно заглатывал дым, весело зыркал глазами. Радовался последним затяжкам. Сухинов восхищался его самообладанием и мужеством. Старик ни на что не жаловался, не скулил, не вымаливал у смерти лишний часок. Он ее встретил достойно, как положено человеку.
— Ты не сомневайся, Сухинов, помирать не страшно. Люди все твари, и я тварь мерзкая, но и твари — создания божии, и у них в душе сияние есть… Об него и греюсь напоследок. — Закашлялся, цигарку обронил, глаза выпучил — и отбыл на полувздохе. Сухинов уговаривал конвойных, чтобы старика зарыли на кладбище, хоть и за оградой, сулил расплатиться, когда деньги будут, ему обещали, но, видно, так, чтобы отвязаться. Утром партия побрела дальше, старик остался на нарах, завернутый с головой в тряпье. Где и как его приютили — никому не ведомо, впрочем, никому и нужды нет знать.
Соловьев по весне оживился, окреп. В нем затеплился интерес к протекающим вокруг медленным событиям. Выразился этот интерес странным образом. Он вдруг стал донимать Сухинова упреками: зачем тот водится с этим отребьем, зачем унижает свое звание и достоинство?
— Иван Иванович, милый, пойми, если мы хотим сохранить себя в новых условиях, остаться людьми и выжить духовно, нам невозможно смешиваться с ними. Спасение только в полной изоляции от всей мерзости и грязи, которая нас окружает… Я еще могу по-человечески понять твои заботы об этом несчастном старике, они продиктованы гуманностью, но что у тебя может быть общего с этим первобытным человеком, кажется, ты называл его Копной? Видишь, у них и имена не христианские!
Сухинов смотрел на приятеля застенчиво.
— Прости, Вениамин, но это не имя, а прозвище.
Соловьев сказал:
— Напрасно ты так, Иван. Ты думаешь, во мне говорит голос сословного чванства — полно! Я давно отрешился от идеи наследственного превосходства. И, думая о будущем России, более всего уповаю на пробуждение народного духа и сознания. Но до этого еще так далеко, дорогой мой! Наш народ, веками притесняемый и угнетенный, погряз в невежестве и предрассудках. Пока он в таком состоянии, единение с ним, слияние с его массой губительно. Самые высокие и чистые поступки и стремления он не поймет и истолкует по-своему. Необходима длительная и упорная работа по его просвещению и воспитанию. На это уйдут сотни лет.
— Зачем же тогда мы бунтовали?
— Нашей задачей было облегчить положение народа, это могло бы ускорить его пробуждение.
— Не понимаю, — серьезно сказал Сухинов. — Если кому-то силой засовывать в рот пряник, то это будет уже не пряник, а издевка. И потом, Вениамин, вспомни Михея Шутова, вспомни всех солдат, кто пошел за нами, разве все они были слепы?
Соловьев кисло поморщился.
— Наполовину мы обманули их, конечно. Мы действовали во имя общего блага, но это не может служить оправданием… Я и сам этого не понимал раньше, но теперь, когда появилось много времени для размышлений, я понял: мы поступили нечестно и несправедливо по отношению к солдатам. Вспомни, Иван, благими намерениями вымощена дорога в ад.
Сухинов с теплым чувством всматривался в сосредоточенное, печальное лицо друга. Долгие месяцы лишений и унижений не изменили и не сломали барона. Скудно питаясь, замерзая, недосыпая, изо дня в день волочась к неведомому пределу в толпе обездоленных и сирых, он нашел успокоение в продолжительных думах о добре и зле, о великих философских доктринах, счастливо восполняя духовной пищей убожество текущих дней, и, казалось, был недоволен теперь лить тем, что не имеет под рукой книг, дабы сверить и соотнести с опытом былых мудрецов некоторые свои выводы. Сухинов отдавал должное стойкости друга, но согласиться с ним не мог. Путь погруженного в себя созерцателя, этакого египетского жреца, был чужд его деятельной натуре.
Он был из тех, кто не прощает. Он сказал:
— Не думаю, что мы перед кем-то виноваты, Вениамин. Ни ты, ни я. Мы никого не обманули, хотя бы потому, что разделили общую участь. И разве можно презирать людей за то, что волею судьбы они прожили жизнь в грязи и нищете. Сергей Иванович мне как-то сказал, что заботиться надо обо всех людях. Ведь нельзя сделать добро тому, кого презираешь, к кому относишься свысока. Я не сумею объяснить, мне не хватает твоих знаний, но я так чувствую.