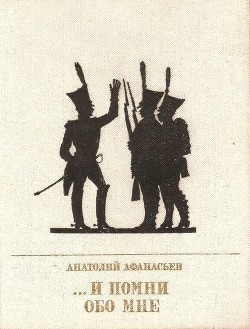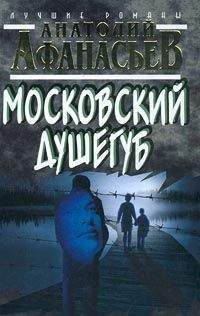Двенадцатого февраля партия прибыла в Читу. До Нерчинских рудников, куда их гнали, оставалось с месяц хорошего кандального шага. Их поместили в пересыльной тюрьме. Дали денек отдыха. Если бы их выпустили погулять, они за полчаса дошли бы до острога, где томились многие их товарищи. Гулять их не пустили, зато позволили поговорить через тюремную ограду с неожиданными посетителями.
Княгини Трубецкая и Волконская, и Александра Муравьева, изящные красавицы, в недалеком прошлом светские дамы, поджидали их с раннего утра. Ничего не осталось в них от прежнего блеска. На студеной окраине державы три несчастные русские женщины протягивали руки несчастным узникам. О, великое, сострадающее, верное, ласковое женское сердце! Непослушные на морозе губы складывались в подобие веселых улыбок, исстрадавшиеся очи лучились нежным приветом. Столько было в их облике гордого непокорства, непостижимого торжества над судьбой, так таинственно само их присутствие здесь взывало к разуму и свету, что не выдержали мужчины, скорбный вздох вырвался из каждой груди. Не стыдясь, плакал Саша Мозалевский, мученически улыбался Вениамин Соловьев, помрачнел, насупился Сухинов. Встреча невозможная, счастливая! Ни слова еще не было произнесено, а они — и те, кто в оковах, и те, кто относительно свободны, — ощутили, что связаны нитями крепче родства, переплетена их доля навеки в один узелок. Потом начались расспросы, и любое произнесенное слово согревал изнутри отблеск первого немого узнавания, которое нужнее и надежнее слов.
Женщины понимали, что эти трое вынесли больше, чем все остальные, чем их мужья и братья. Они хотели вселить в них надежду, ободрить, и у них было что сказать. Уже несколько месяцев в Читинском остроге обсуждались возможности побега. Было несколько вариантов. Самый надежный, к которому склонялось большинство, — нападение на караул, захват города. Дальнейшее казалось нетрудным. Погрузиться на какое-нибудь подходящее судно и плыть на нем вниз по Амуру, до океана. А там уж как бог даст.
Но говорить об этом плане женщины не решились, боясь еще больше огорчить узников. Ведь их не оставляли в Чите, а гнали дальше.
Они, сострадая, произносили общие слова утешения. Они уже были наслышаны о Сухинове и обращались большей частью к нему, стараясь смягчить, отогреть его ожесточенное сердце. Их пугало его багровое, обмороженное лицо, на котором угрюмо сверкали угольно-черные глаза.
— Сухинов, милый наш брат, — говорила Волконская дрожащим голосом. — Успокойтесь, смиритесь. Лиза Нарышкина рассказывала о ваших настроениях. Так вы убьете себя прежде времени! Так нельзя жить! Нельзя жить ненавистью. Да, вам много причинили зла, но Христос учил прощать. Простите своих обидчиков, и вам станет легче. Надо жить надеждой. Все переменится к лучшему, вот увидите. Сейчас ночь, но наступит утро.
Сухинов с наслаждением впитывал в себя негу женского голоса. Он сказал:
— Оживите Муравьева, Щепиллу, Кузьмина, и тогда я прощу своих обидчиков, княгиня!
— Ах, боже мой! — воскликнула Трубецкая. — Ах, какая невосполнимая утрата для общества, для отечества!
Она-то хорошо помнила Сергея Ивановича. Он был так уверен в себе, жаркоречивый, красивый, бледный, похожий на апостола. И вот его нет, а ее Серж, осторожный, умный, благородный, сброшен на самое дно жизни. Чья в том вина? Ей ли понять? Она будет нести до конца свой крест, охотно разделит с мужем его муки, но душа ее отвергает жестокость и насилие, готовность к которым так и брызжет из глаз этого обмороженного, неусмиренного человека, бывшего поручика. Его товарищи, это видно, намного спокойнее и добрее. Но он обязательно погубит и себя и их, по его лицу бродит отсвет небытия. Его разум не внемлет словам тишины и покоя. Боже мой!
— Вы хотели добра, — попыталась она объяснить то, что чувствовала сама, — получилось зло. Пролилась кровь невинных. Бог и царь сильнее обыкновенных смертных, и они всегда будут правы. Надо смириться и возносить молитвы за упокой души павших братьев. Все иное — путь в бездну. Неужели это трудно понять?!
Напрасно она помянула царя. Сухинов посмотрел на нее отчужденно, как на врага.
— Вы сказали — царь, княгиня? Вы сказали: царь всегда прав? Будь он трижды проклят, ваш царь! Этот низкий и мелкий человечек вскормлен не материнским молоком, а змеиным ядом. Разве он наказывает, как подобает великому, за заблуждения наши? О, нет! Он мстит нам каждому в отдельности, как мстят коварные, злобные души. Да, да, княгиня! У того, кого вы называете царем, трусливая, подлая душонка, как у содержателя притона. Он всю Россию превратит в притон. Он замучает народ, всех своих подданных.
Лицо Сухинова пылало, слова соскакивали с губ, словно искры. Соловьев положил ему руку на плечо, но он сбросил ее.
— Что же можно сделать, что можно изменить? — прошептала Трубецкая, едва не теряя сознание от внезапно охватившей ее слабости, от робости перед этим человеком, перед его неукротимостью. Как будто в него вселились души всех казненных, всех замученных и через него требовали отмщения. Саша Муравьева рыдала.
— Я не покорюсь, — поклялся Сухинов. Он смотрел сейчас через головы стоящих женщин и видел что-то такое, чего никто из них не видел. Он повторил, как в бреду:
— Я не покорюсь! Я и каторжан подыму.
Соловьев осуждающе хмурился — он не понимал и не разделял гнева Сухинова. Саша Мозалевский словно ничего и не слышал, витал в облаках, ему важно было знать, не выглядел ли он несколько минут назад слишком жалким, проливая слезы. Сухинов опомнился, взял себя в руки, скривил лицо в беспечной ухмылке.
— Простите, уважаемые дамы, мою солдатскую несдержанность! Нервы, знаете ли, расшалились, расшатались, не пойму от чего.
Притихшие было гостьи обрадовались, оживились. Наговорили еще много ласковых и утешительных слов, овеянных грустью. Но обращались уже не к Сухинову и даже избегали на него смотреть. Он чувствовал, что напугал их, оттолкнул от себя, и с горечью думал, что так было и так будет дальше: многие не поймут и не примут боли, сосущей его кровь. Но он ошибался на сей раз. И Волконская и Трубецкая прекрасно его понимали, желали ему добра, только его неистовство было им не по плечу. Они избегали его взгляда, потому что опасались прочитать приговор и себе и своим близким. Суровый приговор человека, продолжающего борьбу в одиночку. Когда прощались, Волконская обернулась к нему, попросила:
— Сухинов, не осуждайте нас, мы всего лишь слабые женщины. Будьте снисходительны!
Вязкий комок заклинил горло Сухинова, он с трудом, закашлявшись, ответил:
— Эту встречу я никогда не забуду!
Ранней весной, которая в этих местах отметилась тридцатиградусными морозами, спустя полтора года после выхода из Киева, черниговские офицеры достигли наконец места, где им предстояло, может быть, провести всю оставшуюся жизнь. Это был Зерентуйский рудник, забытая богом дыра. До Китая отсюда рукой подать. Промежуточная остановка между небом и землей. Оглядев необитаемую местность, Соловьев сказал товарищам:
— Люди здесь жить, разумеется, не могут!
Сухинов невесело засмеялся, Мозалевский промолчал. Люди тут жили тем не менее: каторжники. Помимо всякого сброда сюда были сосланы околевать бывшие солдаты, среди них и участники бунта Семеновского полка 1820 года, открыто выразившие возмущение жестокостью командира.
Сразу по прибытии произошло маленькое недоразумение. Конвойные казаки, торопившиеся в обратный путь, потребовали вернуть им кандалы. Они должны были за них отчитаться по возвращении. К кандалам государство Российское относилось бережно, на них всегда был спрос. Офицеров расковали и отдали железки скандальным казакам. Те, довольные, ускакали. Местное начальство находилось в затруднении: как поступить дальше? Письменного предписания держать бунтовщиков в оковах у них не было. Но, с другой стороны, не было и противоположного предписания. Мелкому чиновнику трудно решить самостоятельно такой важный вопрос. Все-таки, поразмыслив, оставили вновь прибывших без оков — до новых распоряжений.