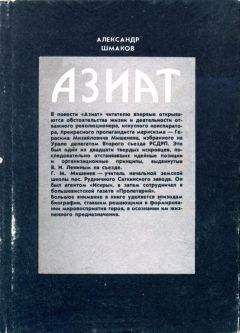— Я расстаюсь с вами здесь, мои дорогие. Хочу позабавиться с ним. — И обратилась к Мишеневой: — Скажите мужу, на Урале была и никогда не забуду этой волнующей страницы в своей биографии. Он ведь должен знать Кудрина, значит, и чуточку меня — по рассказам товарищей.
Эссен приподняла вуаль и поцеловала в щеки своих спутниц.
— Счастья вам и удач в жизни!
Через день Мария Моисеевна уехала. В Женеву была отправлена зашифрованная резолюция:
«Саратовский комитет подчиняется всем учреждениям партии, отрицательно относится ко всем действиям, идущим вразрез с постановлениями съезда, считая эти действия дезорганизующими партию…»
А вскоре Восточное Бюро ЦК РСДРП отозвало Мишенева и направило в Киев.
1904 год принес России новые тяжкие испытания. В конце января в газетах было опубликовано сообщение о прекращении дипломатических отношений с Японией.
По случаю начавшейся русско-японской войны в городском театре перед спектаклем публика требовала исполнения гимна. В партере сидели либералы, земцы, купцы, офицеры — сливки общества, но не было рабочих, кустарей и ремесленников.
Газета «Саратовский дневник» печатала заметки о подъеме духа, славословила царя, победоносное воинство.
Барамзин понимал, что в этот момент нужен не такой подъем, совсем другое должно быть «волеизъявление». Надо идти на заводы, ехать в деревни и рассказывать, какие бедствия несет с собой война, кому она нужна и зачем. Егор Васильевич остро ощущал, что не хватает ему сейчас энергичного Мишенева, задержавшегося в Киеве по заданию Бюро ЦК.
А городская газета захлебывалась ура-патриотическими заметками. «Саратовский дневник» печатал сведения об отчислении из жалованья служащих в пользу семей воинов.
В начале февраля из Саратова на Дальний Восток ушли первые эшелоны. Роты Лесного, Хвалынского и Балашовского батальонов следовали прямо в действующую армию. По заснежненным улицам города шагали солдаты. На тротуарах глазела публика, выбежавшая из пивных, магазинов и ресторанов. Дворники, важно выставив грудь, поблескивали начищенными бляхами.
Гремел духовой оркестр. Воины пели:
Кому мои кудри,
Кому мои русы,
Достанутся расчесывать…
У железнодорожного вокзала — тысячи людей. Кишмя кишит перрон под железной крышей, накаленной крепким морозом. Стрелки в черных папахах, бородатые, с обветренными лицами и совсем юные, безусые, — в серых шинелях, озябшие на ветру. У многих под мышкой краюха хлеба, на поясах побрякивают манерки и саперные лопатки.
— Дай тебе бог вернуться, — еле выговаривала плачущая женщина, закутанная в большой платок.
— Земляк, здорово! — Деповский рабочий обнимает однодеревенца-стрелка. — Значит, за веру, царя и отечество?
Барамзин был тут же. Он улавливал в словах рабочего скрытый, совсем другой смысл и радовался: понимает!
Члены городского комитета условились: будут на вокзале, чтобы видеть все своими глазами, а там решат, как поступить. Тут где-то находился Яков Пятибратов с Волькой Антоновым. Не усидела дома и Анюта. Оставив на попечение хозяйки Галочку и трехмесячного сынишку, она тоже была на вокзале вместе с Соней Богословской.
После отъезда мужа Анюта не находила себе места, ей не хватало общения с людьми, близкими к заботам и делам Герасима. Она скучала о Лидии Ивановне, Хаустове, к которому привыкла как к участливому человеку. Здесь, в Саратове, Барамзин и Голубева были всегда заняты. Мишенева оставалась благодарна Саше Пятибратовой да Соне, часто навещавшим ее.
В письмах Герасим сообщал, что с утра и до позднего вечера занят работой. Все очень сложно и трудно. Он сильно устает и по-прежнему недомогает.
Анюта терялась и не знала, как же помочь Герасиму. «Не поехать ли самой в Киев?» — преследовала ее неотвязная мысль. Она делилась своими раздумьями с Пятибратовой и Богословской, те сочувствовали Анюте, но отговаривали, дескать, Герасим Михайлович скоро вернется.
Сейчас Анюта вместе с Богословской наблюдали за всем, что происходило на вокзале.
В парадной комнате губернская знать чествовала уезжающих офицеров. Городской голова вручил начальнику эшелона икону в футляре. Вице-губернатор, пышно разодетый, при всех регалиях, поднял бокал шампанского за победу над врагом. Он произнес тост за здравие государя российского императора.
А на перроне — прощальный галдеж, сутолока, крики, рыдания.
— Что же будет, что же будет теперь с матушкой-Россией?
Анюта прижималась к Богословской. Ее тоже душили слезы при виде голосивших баб. Появился возбужденный Пятибратов. Он был угрюм, знал: бездействовать, оставаться равнодушным нельзя. Подошел и Егор Васильевич молчаливо-сосредоточенный. Его тоже одолевал вопрос, какие действия предпринять, чтоб были правильными и нужными в этот ответственный час?
— Я не отбывал воинскую повинность, — сказал Пятибратов, поправляя мохнатую шапку. — По дальней жеребьевке не принят на службу, зачислен в ратники ополчения. Может, теперь призовут?
— А надо ли, чтоб призвали, Яков Степанович?
— На душе тяжко, сердце будто кошки скребут.
— За кого воевать?
— Солдаты-то наши, русские, на погибель идут…
Из парадной комнаты доносилась торжественная музыка духового оркестра. Там пели: «Боже, царя храни!»
— Кого будут защищать вот эти стрелки? — спрашивал Пятибратов, указывая на солдат, суетливо бегающих у вагонов. — Царя-батюшку?
Чувствительная Анюта готова была хоть сейчас записаться в сестры милосердия: связывали дети. Соня Богословская решила не колеблясь:
— Мой долг — быть там. Я должна поехать на позиции.
Военные действия на Дальнем Востоке развивались быстро. О возвращении солдат к лету, как думалось, не могло быть и речи. На заборах расклеивались приказы, объявляющие о новом наборе.
Вскрылась Волга, прошумела шуга, унесло последние льды вниз. Потянулись по реке баржи с дровами, глиняной посудой, пиленым лесом. Нависла над Волгой прозрачная синь, засверкали крыльями в небе белые чайки. За баржами и длинными плотами появились пассажирские пароходы, оглашающие берега протяжными, басовитыми гудками. В воздухе чернели космы дыма.
Весна не принесла ожидаемой радости. В «Саратовском дневнике» печатались длинные списки погибших. «Вечная память, вечная слава!» Война все больше запутывала события, завязывала тугим узлом, накладывая на все свою тяжелую и позорную печать. В городе продолжались сборы пожертвований. Можно было подумать — вот то главное, что нужно делать в глубоком тылу, вдали от артиллерийской канонады и пулеметной стрельбы, криков и стонов раненых солдат.
Теперь члены партийного комитета знали, что надо делать. Из Женевы получен листок «К русскому пролетариату». ЦК РСДРП разъяснял народу: царское правительство напрягает все силы, чтобы отомстить за поражение русского воинства в развязавшейся бойне на Дальнем Востоке.
Барамзину удалось размножить на гектографе этот листок, расклеить рядом с выпусками срочных правительственных телеграмм, раздать надежным людям на заводах и железнодорожных мастерских.
«Кто сеет ветер, тот пожнет бурю! — взывал листок и провозглашал: — Да здравствует братское единение пролетариев всех стран, борющихся за полное освобождение от ярма капитализма… Долой разбойническое и позорное царское самодержавие!»
Пятибратов, выехавший в деревню, объяснял на сходках истинные причины событий, происходивших на далекой окраине царской России.
— Из-за чего же борется теперь не на живот, а на смерть русский рабочий и крестьянин с японцем? — задавал он вопрос и отвечал: — Из-за новой земли, захваченной русским же царем чуть раньше в Маньчжурии и Корее… Русскому рабочему и крестьянину эта война сулит новые бедствия, потерю человеческих жизней, разорение, новые тяготы и налоги… Вот и думайте, кому нужно это кровопролитие.
На Митрофаниевской площади заливалась рыдающая гармоника, гудела до поздней ночи людская толпа. Огромный двор воинского присутствия кишел, как муравейник, новобранцами, бородачами и бабами в пестрых платках и цветистых сарпинковых кофтах.
На улицах не умолкал людской галдеж. Среди мастеровых и кустарей постукивали костылями раненые солдаты, пришедшие из лазарета.
— Небось слыхал, что пишут газеты? — прикуривая козью ножку у подошедшего служивого, интересовался железнодорожник в замасленном картузе.
— Что мне газеты? — отвечал тот. — Нагляделся в натуре. Дела, браток, плохи. Японец силу взял, бьет и в хвост и в гриву.
— Куда же генералы и офицеры смотрют? Эдак вражина-то и до Сибири хватанет.
— До Сибири, може, духу не хватит, а мужиков пулеметами перекосит.