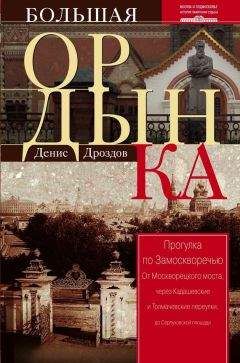Утро, как всегда, означало начало нового дня — продление жизни с её вселенскими заботами, часть которых лежала на его плечах. Нескончаемые степные улусы жадно укатывались брюхом ползущей орды. Нет-нет, да в великое русло впрыскивались струйки новоприбытцев.
Когда зазеленели рослые кущи яицкой степи, орда распахнула крылья на версту. Над Кош-Яиком сгущалась гомонливая туча самое малое в тьму — сто сотен — сабель. Условия не позволяли Бердышу пересчитать и десятой части кочевой лавы. Ни к чему. Иной вопрос: что коль такие же полчища обступят яицкий городок и с севера, и с запада? Худо придётся казакам. Не устоять… Одна надёжа, что из-за распрей не собрать ногаям такой силы?
Раз пять мелькнул Ураз. Да так и не удалось столковаться накоротке. А ведь завоевательские намерения Уруса, вкупе с его наглостью, пухшею, как опара, и переходившей в прямой вызов русскому правительству, — всё это требовало от Степана каких-то шагов. В случае, если ногаи удумают порушить новые города, — немедля связаться с челобитчиками Москвы в улусах, чтоб те внутренними сумятицами расстроили замыслы князя. В этом отношении связь с Уразом трудно переоценить. Но, к несчастью, втянутый в походную тягомотину мелким десятником, Ураз был бессилен помочь, да и просто сблизиться с подконвойным русским.
Унылые сутки мельчились полосками знойного дня и чёрной холодной ночи. Вёрст за двадцать от яицкого городка ночь снудила орду на последнее пристанище. Итак, не более четырёх-пяти часов отделяли одержимого князя от вожделенной цели. Но ночь есть ночь, перед ней пасуют и султаны.
Костры, костры… Наверное, никогда ещё тутошняя степь не расцвечивалась таким скопленьем красно-жёлтых, нервно трепетавших на ветру лоскутьев.
Русское посольство поместили на краю огромного лагеря. Откинув полог, Бердыш и Хлопов задумчиво смотрели на тёмную, извивающуюся во вспыхах гладь реки, отсекшей Русь европейскую от нескончаемых степей, лесов, пустынь и хребтов необъятной Азии. Ширина и стремительность Яика подавляли. Хотя в величии заметно уступал он Волге.
Хлопов уж зевнул покликать Степана ко сну. И тишь за соседнею кибиткой расшило приглушённым стоном. Оттуда следом в непривычный час пыхнуло заревом, да не рассвет. Укемаренный покой брызнул треском, визгом, сабельным перезвоном. Вспугнутые кони неслись, сбивая сонливых ногаев, сминая кибитки. Ещё немного и запылал весь северный конец стана. Невидимым смерчем Смерть утаптывала и укашивала урусово воинство.
Наконец, смерч этот вырвался из-за ближней кибитки, обретя «лик» пеших… станичников с саблями и самопалами. Степан обрадованно замахал. Один из казаков тут же припал на колено и бахнул с плеча. Пуля снесла шапку. Бердыш отпрянул, увлекая за собой Ивана.
Огненная зарница этаким, в полнеба, снопищем вознеслась над соседней кущей, осветила лица зажигальщиков. Бердыш матюгнулся: свинцом его принежил не кто иной, как лиловорожий Зея. Досадуя на промах, казак вспомнил чёрта, подхватил лук убитого ногая, вставил стрелу, натянул тетиву. Бердыш изготовился к броску за полог, но другой казак с седо-русой бородой дал Зее по локтю. Степан опознал в спасителе Барабошу. От колыхания огня лик атамана казался стариковским, морщинистым, изморённым.
Здесь на казаков наскочило десятка четыре ордынцев. В их числе и Ураз. Кой не замедлил воспользоваться редким сличьем. Степан подался навстречу. Однако Хлопов дёрнул за плечо. Приметливый Ураз проскользнул выдрой. И очень даже кстати: из мрака выколупнулась зловещая харя Телесуфы: сабля наголо. Достигнув кибитки русских, он резко вырвал что-то из-под полы бешмета. Мутно взблеснуло дуло. Рушница!
Бердыша не нужно было учить, что и как. Помыслы врага красно отпечатались на личине. Телесуфе представился случай свести счёты. Позже всё спихнет на казаков либо побожится, что Степан убит при попытке перемёта. Не искушая судьбу, Бердыш просто прыгнул в кибитку. Напоследок мельком скользнул по сечиву глазами.
Не упуская из виду «подневольных» земляков, атаман прикладом пищали, ровно булавой, крушил ногайские черепа. Одною рукой задёргивая полог, второю Степан выразительно тронул свою шею. Опытный Барабоша и сам понял. Не собираясь помогать своим, Телесуфа уселся при входе в посольскую кибитку. Сторож — не более.
В сечу впрягались ногайские подкрепленья. Одолев сон, они давили со всех сторон.
Казаков было мало, да каждый знал своё место. Кочевая же стая в бестолковой колготне шарахалась и ухала: ни цели, ни порядка. Лишь мешали друг другу. Наконец, разбойников столкнули к реке. Не шибко обидевшись, те стройно отступили к челнам, ждавшим у берега, перемахнули через борт, угостили преследователей залпом из схронённых на дне самопалов, и, улюлюкая, пошли себе к тёмной серёдке простуженного Яика.
В горячечном бешенстве кочевники орали, тщась осветить реку, подбрасывали пылающие головни, искрящие пуки. Где там! Крутой склон не позволил… Из-за густоты скопления стрелы чаще всего уносились бесцельно, вспарывая бесчувственную плоть кашляющей реки. Для казаков, напротив, стрельба была детской забавой. И хотя сгрудившиеся под скалою у воды ногаи тоже не были ещё схвачены подростом «алого цветка», целиться не требовалось, ввиду скученности. Пали — не смажешь!
Короткие вспышки со стругов находили «благодарственный» отзыв. Оказавшись в поле пламенной видимости, казаки спокойно укрылись за прочными выставными щитками. А там и стрелы долетали не всегда. Ни одного убитого и трое раненых — вот весь счёт казачьих потерь. До самого утра проторчали удачливые загонщики на безопасном расстоянии, дразня и возбуждая орду самим своим назойливым и любознайским соседством.
Лишь на рассвете трясущийся от ярости Урус дознался об истинном размере урона от горстки наглецов. Без шапки, выставляя под порывистый, проникающий, не по-серпеньски холодный ветер серую плешь, брёл он вдоль скорбной вереницы убитых.
Число жертв впечатляло. Тридцать семь — наповал, полторы дюжины при смерти, сорок ранены. Шестеро пропали без вести. Не считая более сотни убитых, искалеченных, бежавших лошадей, восьми дотла спалённых и двадцати обгоревших кибиток.
Горбатый, противный, плелся Урус, щёлкая по скулам сучивших за ним на подгибающихся ножонках ближних. Сыскалась пара оплеух и для дворника Телесуфы.
Пуще всего князя раздражала безнаказанность татей. От них осталось пять сорванных мурмолок, обломок сабли, пара пустых берендеек и отколовшийся, весь в крови приклад пищали, наверняка той, что орудовал Барабоша.
От злобы Урус осатанел. Хлопов благоразумно воздержался от соболезнований и отсиделся в кибитке. Степан вообще то ли спал, то ли исправно придурялся.
Убитых завернули в холсты, под непереносимый вой то ль глоток, то ли труб зарыли. В тот же час русские вели тихий разговор.
— Авось опосля такого завтрака Урус и образумится, — допускал Хлопов.
— Хрен знает! Нынче он смекает худо. Слеп от гнева и досады. И всё ж ведь князь: зачал ристаться — хоть какую славу, а добудь. Ему теперь гордость да зависть отступиться не позволят. Но я так полагаю: коли не завтрак, то обед казацкого посолу охотку ему надолго отобьёт, — засмеялся Степан.
Угнетающая обстановка тризны русским не передалась. Пожалуй, их даже воодушевила победа станичников: хоть и тати, а всё ж свои, христиане, русские. Да ещё как утёрли нос «сарацинам»! Кровная спесь — цепкое зелье. Великолепные действия казаков опьянили и окрылили: так, глядишь, и кош отстоят. Но это, конечно, уж так — для самоуспокоения. Слишком силы неравны…
Наперёд всего — скрыть от сумрачных азиатов ликование, так и пузырящееся на бледных лицах русопятов.
Телесуфа больше не лыбился: зыркал побитым бранчливым псом. Пришьёт при сличье, однозначно вывел Степан.
Казацкое озорство задержало растерявшуюся орду на сутки. Аж! Целые! И вот несметная гуща пенными всплесками осела у стыка Илека с Яиком, прямо против крутого склона с прочным жёлто-коричневым срубом. У Уруса накипело, слишком накипело, чтобы дожидаться припозднившихся союзников. Имеющиеся силы вполне позволяли разделаться с реденьким казачьим поголовьем. Так считал Урус. Так считали ногаи. Но не все…
Знойный денёк. Ногаи брызжут слюной и потом, крутят колючими головами. Ещё бы, на большом острове — крошечные очертания казацких девиц, что, подоткнув подолы, бессовестно и безмятежно прохаживаются вперёд-назад, вперёд-назад. Бельё полощут! И, конечно же, в упор не видят беснующихся, визгливых и чумазых пришельцев, что прямо напротив. Но за двумястами саженями глыбкой водицы.
Дальше больше. Три бабы взяли, да и вообще разнагишались. И ну плескаться в прохладной воде. Опять же беззастенчиво, не замечая. Телом здорово-белые, ликом розово-румяные — прямо, свежие булки, они дразняще извивались по зелёной бахроме прибрежной рощицы.