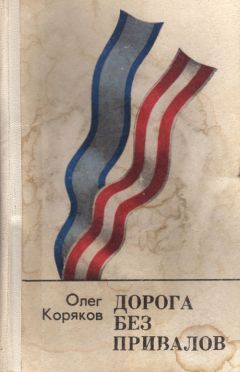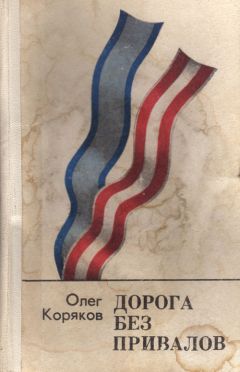Анна Еремеевна проработала два месяца, когда Ольга Ивановна велела ей поставить судно лежачей больной с пневмонией.
— Судно? — переспросила Анна Еремеевна. — Корабль?
— Пароход! Идем!
Ольга Ивановна привела ее в кладовку, где хранился инвентарь, и ткнула пальцем в фаянсовое судно. Анна Еремеевна взяла его, явно теряясь в догадках, куда это ставить больной. Полнейший абсурд! Все равно что дать повару в руки кастрюлю, а он не будет знать, что с ней делать.
— Судно следует наполнить небольшим количеством воды, чтобы испражнения не прилипли к стенкам. — Ольга Ивановна говорила медленно и четко, как по книжке читала. — При подкладывании судна рука санитарки подводится под крестец больного, таз при этом поднимается, колени согнуты и разведены в стороны. Судно подводится под ягодицы так, чтобы над большим отверстием оказалась промежность больного, а трубка — межу бедрами по направлению к коленям. Удаляется судно в обратном порядке. Затем освобождается от содержимого, тщательно моется и обрабатывается трехпроцентным раствором хлорной извести. Вопросы есть?
— Нет.
— А у меня есть! Жду вас в ординаторской.
Почему Ольга Ивановна свой маленький кабинетик называет ординаторской, Нюраня взять в толк не могла, никаких орденов там не имелось. Вопросов у Нюрани было много, но задавать их часто она опасалась. На каждом шагу она сталкивалась с предметами, предназначения которых не знала, проявляла беспомощность в ситуациях, которые Ольге Ивановне казались обыденными. Акушерка смотрела на Нюраню так, словно девушка страдает подозрительными провалами памяти.
Она не быстро выполнила приказ явиться в ординаторскую, потому что провозилась с пациенткой — простой бабой, измученной лихорадкой, обессилевшей и слезно просившей помочь ей выползти на улицу, «сходить до ветру». Увидев судно, баба испуганно запричитала. Нюраня, выполняя инструкцию — под крестец, колени согнуты… — ласково называла женщину «миленькой», говорила, что страшиться нечего, больные и врачи стыда не имут, судно — это ерунда, а вот городские граждане на двор до ветру не ходят, у их такие специальные помещения клозеты-сортиры… И то сказать! Если бы они все на улице испражнялись! Садов-то и дворов нет… Заболтала, успокоила.
— Хватит морочить мне голову! — напустилась на Нюраню Ольга Ивановна, как только та вошла в ординаторскую. — Вы такая же медсестра, как я печник!
— Воля ваша.
— Садитесь и рассказывайте!
— Что?
— Правду! Если поймаю вас на лжи, вылетите отсюда, как пробка от шампанского! — Ольга Ивановна запнулась и спросила: — Вы знаете, что такое «шампанское»?
— Нет.
— И скажи я, что это раствор для клизмы, поверите?
— Конечно.
— Но основные кости скелета человека перечислить можете?
— Могу.
— Это черт знает что такое! Рассказывайте! Всё без утайки.
И Нюраня поведала свою историю. Про доктора Василия Кузьмича, который учил ее медицине, но не регулярно, а когда был трезв или не шибко пьян, про «анбулаторию» на их дворе, про то, что мечтала учиться, но мать не отпустила бы, а когда мать слегла и «залежала жизненные соки», пришлось самой хозяйство вести. Про раскулачивание, бегство и Максимку, который обязательно за ней приедет, тоже рассказала.
— Хорошенькая у нас тут подобралась компания, — задумчиво сказала Ольга Ивановна. — Белогвардейская вдова и раскулаченная беглянка.
— А кто вдова, вы?
На этот вопрос Ольга Ивановна не ответила, несколько минут подумала, точно взвешивая что-то, принимая решение.
Встала и объявила:
— Пусть все остается как есть. В конце концов, вас сюда прислали, имеется распоряжение. Никто не может обвинить меня в том, что я пригрела приблуду. На вас не распространяются мои… обстоятельства, а на меня — ваши. И вот еще что. Хватит вам конспирацию разводить. Спрашивайте о том, чего не знаете.
Сбросив груз вранья, открывшись Ольге Ивановне, Нюраня точно переродилась, а точнее — стала самой собой.
— В вас точно шампанского ввели, — качала головой Ольга Ивановна.
— Ага, — весело отзывалась Нюраня, — в виде клизмы.
Она не ходила, а носилась по больничке, ее физическая выносливость была поразительной. Засыпа́ла Ольгу Ивановну вопросами, и та частенько поднимала руки, словно обороняясь:
— Хватит! Вы сегодня узнали столько, сколько человеческая память не может за один раз вместить!
— А вы меня завтра проэкзаменуйте!
Ольга Ивановна экзаменовала, и оказывалось, что Анна Еремеевна отлично все усвоила.
Больничка представляла собой барак с длинным коридором, по сторонам которого шли комнаты — ординаторская, процедурная, где принимали больных, операционная, две палаты, мужская и женская, по пять коек, подсобки.
Изба, по-здешнему «хата», в которой жили Ольга Ивановна и Нюраня, стояла в тридцати метрах, наискосок от барака. Еще из строений — сарай, конюшня с сенником и домишко Николая, того самого возницы, что доставил Нюраню.
Угрюмый и неразговорчивый Николай, сторож, истопник, дворник и во всех остальных должностях единое лицо, был искренне привязан к единственному существу — коню Орлику. В отличие от Нюрани, не имевшей документов личности, Орлик обладал справкой как «животное, прикомандированное к медицинскому учреждению», освобождающей его от повинностей и мобилизаций. Жена Николая, бездетная Евдокия, числилась техничкой, то есть уборщицей, и поварихой, готовившей для больных и медперсонала. Она была доброй, но феноменально ленивой. Могла работать только из-под палки. Связка «работа-палка» настолько крепко въелась в скудоумную башку Евдокии, что иным мотивам труда некуда было втиснуться.
— Дуся! — орала Анна Еремеевна. — Кто так моет полы?! Ты сирота, что ли? Или мать тебя не научила? Моя бы такие полы не просто перемывать велела, языком драить заставила бы. Гляди, как надо! — И хватала тряпку.
Вечно полусонная Дуся оживала, когда Анна Еремеевна обзывала ее халдой или галямой и требовала отмывать медицинский инвентарь до блеска.
— Дуся, язви тебя! Ты чего наготовила? Ты какой еды наварила? У нас страждущие пациенты, а не свиньи! Моя мать тебя бы харей в это хлебово потыкала! Ох, потыкала!
В представлении Дуси, мать Анны Еремеевны была каким-то высшим существом, строгим до неимоверности. В общем, это было недалеко от истины.
— И не сметь мне заявлять про продукты порченые! — топала ногой, продолжая разоряться, Анна Еремеевна. — Сами сгноили! Кто так хранит зимой? Вам государство забесплатно выписало-предоставило, а вы спортили! Это пироги? Это угощение для грешников в аду! Я-тко научу тебя тесто творить! Спать любишь? Я-т тебя разбужу! Чтобы хлебы поднялись, надо до света вставать. Пошла мыть квашню! Песком до белого дерева отскрести! Сама замешаю, а ты только попробуй испортить тесто! Я тебе клистиров во все дырки навставляю!
Николай, что можно было понять по некоторым признакам, включил Анну Еремеевну в особы приближенные. Не так, как Орлика, конечно, но высшим знаком расположения из уст Николая звучал вопрос: «Чё нада или как?»
Пациенты обожали Анну Ереемевну, а Ольги Ивановны страшились. У Анны Еремеевны все отчаянно страдающие были «миленькие», «сердечные», «голубчики» и «голубушки». Но если крепкий мужик или баба принимался блажить из-за пустяковой царапины, Анна Еремеевна могла их так застыдить, такими эпитетами наградить, что Ольга Ивановна невольно прятала улыбку.
Нюране было невдомек, что с ее появлением к Ольге Ивановне вернулись улыбки, и лицо акушерки, давно забывшее выражения радости, теперь словно бы заново их осваивало.
Пациентов было много, до пятидесяти в день. Они забивались в коридор, мерзли на улице. Наплыв больных несколько спадал только в страду. Плюс экстренные больные с травмами и роженицы, за которыми прислали подводу или надо было Орлика запрягать. К акушерке бросались, если женщина не могла сама разродиться, значит, роды с осложнениями. Ночь-полночь, надо ехать.
Анна Еремеевна могла мало-мальски вести прием больных и сняла с Ольги Ивановны все заботы по хозяйственной части, то бишь командование Евдокией с Николаем. Непосильное напряжение ослабло, появилось время встрепенуться, оглянуться, задуматься. Хотя в непосильном труде тоже была своя прелесть — он приближал к окончательному израсходованию сил, избавлению от взятой на себя епитимьи.
В энергичной, часто заполошной сибирячке Ольга Ивановна вдруг обнаружила черты своего мужа. Как бывает, что человек с художественным талантом не может не рисовать, а музыкант — не сочинять мелодии, так есть редкие люди, для которых высшее удовольствие — лечить, врачевать. Таким был ее муж, но не она сама. Помогала ему, ассистировала, думала, что на него похожа. Но это было только проявление обожания, когда хочешь нестись на одной волне с любимым. В последние годы Ольга Ивановна трудилась в память о муже и назло тем, кто его сгубил. Когда увидела в Анне Еремеевне задатки истинного лекаря, с удивлением почувствовала щемление в груди.