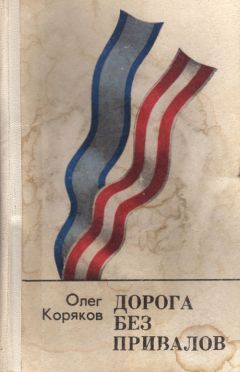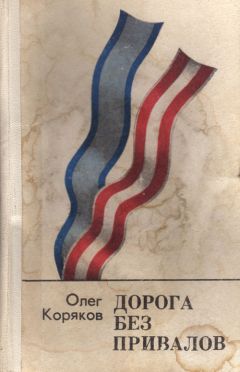Убежало малое число — подростки, парни неженатые да девки. Куда отец семейства денется? Или мать с молочным младенцем и еще тремя мал мала меньше? В городе-то, страшном и жестоком, где приют найдешь? А потом еще объявление было, что если побеги не прекратятся, то мужиков от семейств отлучат и по другому этапу погонят. Тут уж сами беглецов за полы хватали — сиди, не накликай беду.
Продукты быстро таяли, потому что сибирячки не могли отказать чужим голодным деткам, тянувшимся на запах похлебки из котелка, подвешенного над костром. Детки подходили и молча стояли, не просили. Им с пеленок внушили, что клянчить зазорно. Одному ложку-другую дашь, второму, третьему — жадно втягивают, обжигаясь, опять-таки тепло заветное в нутро загоняют, и вот уже в котелке на донышке…
Марфа добралась до пересылочного пункта в сумерках, зимой темнело рано. У ворот расхаживал часовой в долгополом тулупе с поднятым воротником, за плечами винтовка.
— Куды?
— Туды! — махнула свободной рукой Марфа на ворота. В другой руке она держала корзину. — Свекра проведать.
— Не положено!
— Кем?
— Командованием.
— Дык тут сейчас ты главное командование. Вот тебе и положу.
Она достала завернутый в белую тряпицу шмат сала, выменянный на базаре несколько часов назад на парадную юбку.
— Водки нет? — спросил часовой, забирая сало.
— Не догадалась, звиняй!
— Ты, это-того, быстро.
— Не задержусь, — пообещала Марфа.
Войдя за ворота, она остановилась, пораженная открывшейся картиной. Табор. Только не цыганский. Она никогда не видела цыганского табора, только слышала рассказы, как однажды занесло на их просторы вольных кочевых смуглых людей в пестрых одеждах. Они раскинули свои легкие жилища на поляне, пели песни и танцевали ежевечерне, цыганки гадали по руке про будущую судьбу и, чтоб она была хорошей, выманивали у деревенских баб золотые и серебряные украшения.
Все цыгане воровали: бабы цыганские норовили стащить мелкое, что плохо лежит в доме или во дворе, что можно под юбкой спрятать, цыганята кудрявые разоряли огороды, цыганы-мужики умыкали лошадей. В Сибири конокрадства отродясь не было, и оно вызывало замешательство. «Ты зачем коня моего упер? — спрашивал могутный сибиряк, держа за шкирку пойманного на месте цыгана. — Ежели острая тебе в нем надобность, сказал бы. Я б тебе подарил конягу».
Единственный за всю историю села приход цыган оставил о себе воспоминание как о бесшабашном празднике народа, не вышедшего из детской поры, испорченного и порочного, тем не менее завораживающего своей дикой вольностью. Табором стали называть становища, когда в страду не уходили с поля или с сенокоса, кормились «с костра», спали под открытым небом.
То, что увидела Марфа, походило на табор изнаночный, ненастоящий. Потому что никакого табора не может быть сибирской зимой. Редкие костры, вокруг в несколько рядов теснятся люди, совершают медленные перемещения — передние уходят, дают возможность погреться крайним, детишек держат ближе к огню. Все укутаны с ног до головы, разговоров нет, только покашливания. В отдалении кони фыркают, сани маячат. И вонь нечистотная, которую почему-то не убивает мороз.
Покашливания, особенно детские, — очень плохой знак. Сибиряки в большинстве своем молчаливы и не любят языком трепать, потому что держать рот на замке их приучила долгая зима. В мороз нельзя дышать ртом, болтать понапрасну. Воздух следует втягивать носом медленно, чтобы он согрелся, пока внутрь идет. Но разве заткнешь рот плачущему голодному ребенку, неразумному младенцу, который несколько суток под открытым небом? Застудились, несчастные. Их бы сейчас в тепло, на печь да отварами напоить, грудки и спинки жиром гусиным натереть…
Марфа шла зигзагами меж костров, на нее косились, задерживая взгляд на корзинке, точно звери, унюхавшие запах съестного.
— Еремей Николаевич! — звала Марфа. Тихо звала, чувствуя, что в скорбной тишине громкий призыв будет неуместен. — Еремей Николаеви-и-ич! Батюшко!
— Ась? Вот он я! Марфинька?
Вдалеке от толпы у костра с корточек поднялась заснеженная фигура. То есть сначала упала на бок в попытке встать, а потом уж с помощью Марфы поднялась.
— Еремей Николаевич!
— Вот он сам. Радость негаданная! Марфинька!
Она не могла разглядеть его лица, темновато было, но по голосу простуженному, по интонациям стариковским поняла, что свекор сильно сдал.
— Што вы? — спросила Марфа.
— Все хорошо, с Божьей помощью. — Он говорил не как прежний Еремей Николаевич, а как дряхлый старик. — Вот только ноги, кажись, приморозил. Хороши чёботы, да на долгий мороз непригодные.
— А-а, лихо! — на вздохе простонала Марфа.
Она оттащила свекра к заплоту. Сняла с головы верхний, козьего пуха плат (под ним еще два шерстяных было). Набросила Еремею Николаевичу на голову, крест-накрест на груди перекинула, на спине узлом перевязала. Сняла с него чеботы, сама разулась, в его обувку ноги сунула — согреть. Показалось, что в стылую глину провалилась. Распахнула тулуп, кофту рванула, рубаху, на голое тело ступни свекра уложила, запахнула полы, руками прижала.
— Болять?
— Ой, болять!
— Хорошо. Знать, не до стекла сморозились.
— Хорошо, — повторил за ней Еремей Николаевич. — Так сладко у тебя на брюхе. Будто даже пахнет, и я ногами чую.
— Чем?
— Женщиной, молоком, волей, счастьем.
Заледенелые ступни свекра, в шерстяных чулках, сделавшихся колючими, точно утыканными мельчайшими иголками инея, ее собственные застывающие ноги в его чеботах, кусающий голову мороз — Марфа изо всех сил старалась не дрожать. Как же он… они тут… детишки…
— Рукой дотянитесь до корзинки, мне несподручно, — сказала она. — Там в уголке масло топленое, а рядом хлеб. Покушайте, вам жирное сичас надо.
— Мне сейчас, — скинув рукавицы (хоть они у него были подходящие, собачьего меха) и роясь в корзине, бормотал Еремей Николаевич, — и песьей косточке радостно.
Перекусив, он слегка приободрился. Марфа двинулась вперед, переместив его ноги себе за спину. Ее живот, подгрудину, исколотые ледяными шипами, проморозило насквозь, только у спины осталась прослойка тепла, которой она делилась.
Со стороны они выглядели чудаковато: два тулова, две головы смотрят одна на другую, между носами расстояние в вершок, и только две ноги, Марфины, раскоряченные, в мужских чеботах, за спиной у второго тулова. Она старалась не трястись от холода. Еремей Николаевич — не стонать от боли в обмороженных ногах.
Он даже пошутил:
— Эк мы с тобой устроились. Точно сиамские близнецы.
— Синайские страдальцы, — улыбнулась Марфа.
Слово «сиамские» ей было незнакомо, а Синай часто встречался в церковных книгах, которые мать заставляла ее читать в детстве.
— Нюраня? — спросил Еремей Николаевич.
— Отправлена в Расею с надежным человеком. Снарядила я ее, не беспокойтесь.
— А в Погорелове? Анфиса?
У Марфы не хватило духа добавить к его страданиям роковые печали. И лицо ее, стиснутое зубной судорогой, желанием не показать, что мерзнет, не выдало лжи:
— Неведомо. Дык вы Анфису Ивановну знаете…
— Она не пропадет! Уж она-то! Она у нас глыба, остов, матрица. Виноват я перед ней. От начала виноват, от женитьбы. Досталась дураку жемчужина, он ее не в оправу, а в карман, в крошки табачные. Опять-таки мы с тобой… грех попутал…
— Вас, могёт, и попутал. А я того греха и тысшу раз… ради чуда, ради Митяя.
— Хороший, славный мальчонка.
Марфу кольнуло, что он сказал о сыне как бы вскользь. Конечно, у него двое старших сыновей, и дочь, и внук.
— Анфиса не пропадет, она наладит, — продолжал стариковски твердить Еремей Николаевич. — Для нее наш род наиглавнейший. Хорошему роду нет переводу. Разметает семя, и где оно найдет хоть толику земли — взойдет, хоть на каменьях. Опять-таки Степан. Что ж он нейдет-то? Отца не вызволит?
— В комнамдировку услали, — опять соврала Марфа. — Не ведает про вас.
— Степа, слава Господу, у власти в авторитете. Может, напрасно Нюраню в Расею услали? Как девке одной на железной дороге да в чужих краях?
Марфа, услышав в словах свекра упрек, еще больше разозлилась на Степана: где пропадает, когда такие безобразия творятся?
— Вот возвернется наш «авторитетный», пусть по-своему командует, — отрезала она.
— Какая ты стала…
— Какая?
Еремей Николаевич хотел сказать «грубая», но посчитал это слово слишком жестоким.
— Резкая, — ответил он. — Да и то, как говорится, живи не под гору, а в гору.
Они тихо беседовали еще несколько минут. Марфа пообещала завтра пригнать лошадь с гружеными санями.
Отрывая застуженные ноги от теплоты женского тела, прощаясь с Марфой, Еремей Николаевич поймал себя на мысли, что расстается с прежней жизнью — сытой, вольготной, благополучной. И это расставание напугало его.