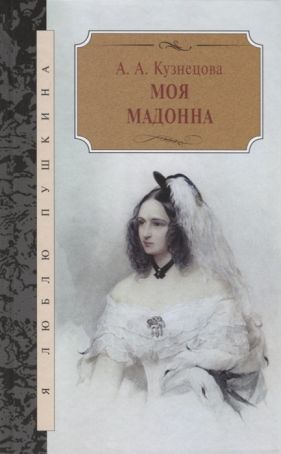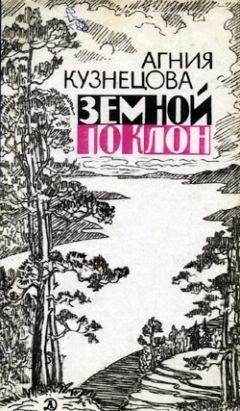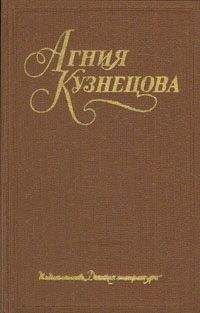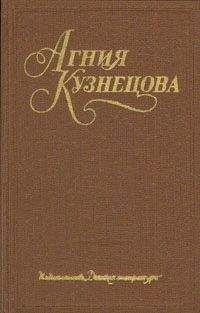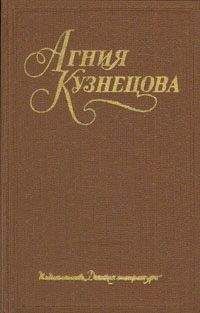его горячую привязанность к себе. Она прощает ему буйство молодости, разгульную жизнь зрелых лет. Она с нежностью представляет его сухую, сгорбленную фигуру, облысевшую, в венчике седых волос голову, сморщенное лицо, под старость ставшее совсем усохшим, и живые, нестарческие глаза.
Жизнь в Москве в доме Гончаровых была совсем другой, чем на Полотняном заводе. Никто уже не баловал Наташу, не выписывал ей из-за границы игрушек, не прислушивался к ее желаниям.
Дети жили в постоянном ожидании психических приступов отца. В буйном состоянии он был страшен. Мать хотела отправить его в больницу, но, когда с этой целью приезжали врачи, он, словно предчувствуя это, вел себя почти как нормальный человек.
Отец обычно обедал с семьей. Когда в обширной столовой был накрыт стол и все рассаживались по своим местам, за Николаем Афанасьевичем посылали горничную.
Наталья Николаевна помнила, как однажды отец увидел на столе забытый графин с водкой. К ужасу матери и прислуги, которые знали, что спиртного ему нельзя, он торопливо сделал несколько глотков прямо из графина, и тотчас же опьянение перешло в буйный приступ: схватив нож, он бросился на жену. Замирая от страха, сидели дети. Они не имели права выходить из-за стола без разрешения матери, которую боялись не меньше отца. И только когда та подала знак салфеткой, дети кинулись спасаться в мезонин, где была тяжелая дверь со щеколдой.
Мать всегда требовала от детей полного повиновения. С возрастом ухудшался и без того тяжелый характер Натальи Ивановны. Она становилась религиозной фанатичкой и деспотом. В доме, помимо гувернеров и гувернанток, жили странницы, монахини, набожные приживалки.
Наталье Николаевне на всю жизнь запомнилась странница Татьяна Ивановна — в черном одеянии, высокая, с мохнатыми мужскими бровями и такими маленькими глазками, что их не было видно, только злой огонек мелькал в ее припухших веках. Она постоянно следила за детьми, подслушивала их разговоры и доносила Наталье Ивановне.
Наталья Николаевна теперь уж не могла вспомнить, о каком ее проступке донесла матери Татьяна Ивановна. У детей была гувернантка Софья Павловна — ласковая, немолодая, настолько полная женщина, что казалась мягкой, и детям доставляло удовольствие дотронуться до нее, будто бы невзначай, пальцем. Дети любили Софью Павловну. И вот она-то с сочувствием сказала девочке, что ее немедленно требует к себе Наталья Ивановна. Наташа перепугалась до слез, долго крестилась у дверей маменькиного будуара. За какую-то незначительную провинность Наталья Ивановна отхлестала девочку по щекам. Было не больно, но до боли обидно…
А в гостиной — тихий разговор родных.
— Никогда, — полушепотом говорила Мария, она сидела в кресле и, опираясь локтями о круглый стол, сжимала ладонями виски, — никогда от маменьки мы не слышали несправедливого или грубого слова. Вы, Петр Петрович, не напрасно всегда считали ее мудрой не по возрасту. Вы помните фразу из ее письма? Я часто ее напоминаю знакомым: «Гнев это страсть, а всякая страсть исключает рассудок и логику». Право, эти слова можно ставить эпиграфом к какому-нибудь роману. Я помню и другие фразы из ее писем: «Я никогда не могла понять, как могут надоедать шум и шалости детей, как бы ты ни была печальна, невольно забываешь об этом, видя их счастливыми и довольными». Это была удивительная мать! Терпеливая, кроткая…
— «Была»! Ты уже, Маша, говоришь «была»… — с упреком дрожащими губами произнес Александр и поднялся.
Мария уткнулась лицом в ладони и разрыдалась. Она очень походила на отца: тот же прекрасно очерченный, но великоватый для женщины рот, тот же нос, но более изящный, то же умное, проницательное выражение глаз, правда, более темных, чем у Пушкина. И волосы у нее совсем темные, разделенные на прямой ряд. Узел лежит низко, почти на шее, и длинные букли падают на грудь. Но она унаследовала во внешности многое и от матери, особенно матовую белизну кожи. Все это делало ее удивительно привлекательной: женственной и естественной.
С 1860 года Мария замужем за генерал-майором Гартунгом. Они жили в Туле, где потом и произойдет ее знакомство с Львом Николаевичем Толстым, который для образа Анны Карениной кое-что подглядит в Марии Александровне Гартунг своим всевидящим оком.
Тем временем Александр, осторожно ступая на носки, прошел в комнату матери. Он строен, высок, с отличной военной выправкой, и даже та печаль, в которой пребывал он теперь, не могла скрыть обычной живости его лица, блеска глаз с чуть неточным, как у матери, взглядом.
— Маменька, нужно что-нибудь? — ласково спросил он, останавливаясь в дверях.
— Ничего, милый, — тихо ответила она, — все хорошо. Хорошо, что все вы здесь. И Машенька приехала, только вот Таша…
Александр возвратился в гостиную. Они, дети, знали по рассказам, а старшие помнили о тех годах, когда мать, после смерти отца, осталась с четырьмя малютками на руках. Отец, умирая, сказал: «Поезжай в деревню. Носи по мне траур два года, а потом выходи замуж, но только за порядочного человека».
И Наталья Николаевна поехала с детьми на Полотняный завод. Она не выходила замуж не два года, а семь лет! И это с ее удивительной красотой, перед которой с изумлением и радостью застывали люди, как перед совершенным произведением искусства. Два года она носила траурные одежды и всю жизнь траур в сердце. Дети Пушкина знали, что, умирая, он оправдывал ее: «Она, бедная, безвинно терпит!»
Александр помнил, как в их доме, когда они снова переехали в Петербург, появлялся то один, то другой, то третий жених. И все получали отказ. Мать говорила, что им нужна была она и не нужны дети. А она жила детьми. В этом была ее жизнь и радость существования. Она не хотела отдавать мальчиков на воспитание в казенные учреждения, считая, что только «родной глаз матери может следить за развитием детского ума». Но вот появился генерал Ланской, который полюбил Наталью Николаевну и с большой нежностью отнесся к детям ее. Они поженились…
Наталью Николаевну проведывали ежеминутно. Теперь к дверям ее комнаты, стараясь шагать неслышно, направился Петр Петрович. Он десятки раз в день подходит к постели жены и каждый раз не может скрыть от нее захлестывающее его волнение, предательскую дрожь рук. Его обычно спокойное, внимательное лицо покрывается неестественным румянцем, а в глазах застывает страх.
Она лежала все