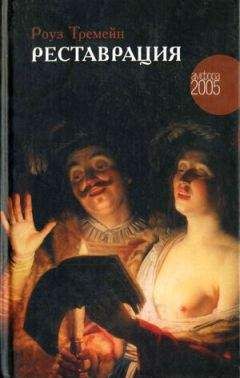Хотя создавалось впечатление, что ветру что-то не дает стихнуть (словно огромный, затянутый тучами свод неба держал его узником под куполом), за все мое путешествие на меня не пролилось ни капли дождя, и за это благодеяние мне оставалось лишь оказывать честь молчаливому божеству мясного пирога. А теперь позвольте моим мыслям задержаться на весьма простых принципах, лежащих в основе жизни Пирса, они-то и делают его неуязвимым и не падким на те соблазны, перед которыми я не могу устоять.
Хотя все свидетельствует об обратном, Пирс и его друзья квакеры считают, что апостольский век еще не кончился, Богу и Сыну еще многое надо сказать нам, но только не устами людей, поглощенных мирскими заботами. «Семя Христово, — не раз повторял мне Пирс, — падает не в души священников или королей, а в душу простого смертного, Меривел». Это как раз и заставляло сотни гордых граждан содрогаться от ужаса при мысли, что слово Божие может исходить от таких, как Кэттлбери или покойный Пьерпойнт, и считать квакерство страшной ересью. Удивительно, но король (он-то не содрогнется, его, похоже, даже смерть не напугает) относится терпимо к квакерам, их неучтивость он переносит спокойнее, чем мою. Если б Пирс не снял в присутствии короля шляпу, не думаю, чтобы у него отняли дом. Не исключено, что за этот дерзкий поступок Пирс был бы награжден тем, что я в свое время считал высшим даром, — королевской улыбкой.
Предаваясь таким бессвязным мыслям — всякий раз, в конце концов, они обращались на меня самого, — я на рысях миновал деревню Доддингтон и заночевал в городишке под названием Марч. Сон мой был горек и полон тревоги: ведь час моего появления в лечебнице Пирса неминуемо приближался.
Новый Бедлам (или лечебница «Уитлси») был построен в месте с поэтическим названием Эрлз-Брайд,[56] но то, что я увидел, никуда не годилось: всего несколько жалких домишек — ни кузницы, ни пивной, ни молочной, вообще ничего такого, где можно было бы обзавестись провизией. Гиблое место. Те немногие, что живут здесь, должно быть, ведут жизнь исключительно однообразную, — в гостях у них бывают только птицы и порывистый ветер. Когда я увидел впервые Эрлз-Брайд (была ли невеста в названии с самого начала, или название разъела сырость, а изначально оно звучало Бридл-Уэй или даже Бридж?), меня посетила игривая мысль: в таком богом забытом местечке и психушка могла почитаться развлечением.
Когда мы приближались к лечебнице — несколько бараков вокруг побеленного известкой невысокого дома — такой дом мог принадлежать фермеру средней руки, — Плясунья остановилась как вкопанная, ее ничто не могло заставить сдвинуться с места, даже яростные пинки по крупу. Я спешился, огляделся и прислушался. Все было тихо, только сердито завывал ветер, но я заметил, что со времени встречи с королем в летнем домике слух мой понес необъяснимую потерю, а по упрямому поведению Плясуньи, ее навостренным ушам я понял, что она слышит нечто такое, что заставляет ее волноваться.
Лечебный комплекс окружала стена из гальки и глины, вроде тех, что окружают замки; единственным отличием, на мой взгляд, было то, что эта стена не охраняла хозяев от непрошеных гостей, а удерживала взаперти сумасшедших, которые в противном случае могли бы разбежаться по равнине или утонуть. В стене были железные ворота, к ним и повел я Плясунью, ободряюще похлопывая лошадь по загривку.
Ворота были заперты. Я постучал и стоял, дожидаясь, пока откроют, потом повернулся и окинул взглядом пустынную маленькую площадь, скинул взглядом человека, у которого внезапно сдали нервы и осталось лишь одно желание — бросить все и вернуться домой. Не сомневаюсь, так я бы и поступил, если б Биднолд по-прежнему принадлежал мне. Даже не задержался, чтоб поздороваться со старым другом.
Ворота открыл высоченный, могучий мужчина с широкой, как бочка, грудью и мощными ручищами, он стоял, улыбаясь и вопросительно глядя на меня. У него были рыжие кудрявые волосы, густые и жесткие, и рыжая борода, которую он теребил.
— Чем я могу помочь тебе, друг? — спросил он. Я приветливо кивнул ему, не переставая ощущать нервную дрожь в холке лошади.
— Я приехал повидать моего друга, Джона Пирса, и… по правде говоря, верю, что могу принести какую-нибудь пользу, иначе трудно объяснить мое появление здесь…
— Пожалуйста, входи. Твоей лошади дадут овса. Это место радостным не назовешь — вы у врат юдоли печали. Обратили внимание на слова из Исайи, вырезанные на воротах?
— Я видел надпись, но не прочел.
— Ага. Тогда прочтите, прежде чем войти.
Великан ухватился за ворота и прикрыл их, оставив меня снаружи. Если б он совсем их закрыл, то, думаю, я развернул бы лошадь и пустил ее галопом подальше от этих мест.
Я вгляделся в надпись на железе: «Вот, Я расплавил тебя, но не как серебро; испытал тебя в горниле страдания». Исайя 48:10.
— Я прочел надпись, — сказал я.
Ворота снова раскрылись, пропуская меня. Я почувствовал, как Плясунья толкнула головой мою лежащую на ней руку, звякнула уздечка.
— Следуй за мной, друг, — сказал рыжий.
Только сейчас я заметил, что на нем поверх черного камзола и чулок надета кожаная табарда. Потемневшая от времени, как поношенное седло, она к тому же была изрядно запачкана.
Я оглядел собственную одежду. На мне были коричневые бархатные штаны и коричневый камзол, слегка оживленный кармином. Кружева на запястьях и на шее были не накрахмалены. Здравый смысл подсказывал мне, что, несмотря на относительную скромность моего костюма, он не подходит для здешней жизни.
Я вошел внутрь, с усилием таща за собой лошадь; калитка за нами закрылась. Мы оказались во внутреннем дворе, земля под ногами была засыпана угольной золой, сквозь нее во многих местах пробивался мох. Посредине рос дуб — единственное дерево во дворе.
— Это двор для прогулок, — пояснил мужчина в табарде. — Мы верим в целебные свойства свежего воздуха.
— Здесь ваши пациенты гуляют?
— Да. Ходят вокруг дерева, круг за кругом, круг за кругом, но в этом нет однообразия. Дерево никогда не бывает одним и тем же, оно меняется. Вы меня понимаете?
— Думаю, понимаю. А сейчас, когда весна…
— Меня зовут Амброс Дайер. Следовало бы назвать себя сразу же: ведь мы придаем большое значение имени.
— Рад знакомству, мистер Дайер.
— А ты[57] кто?
— Простите?
— Как тебя зовут?
— Меня? Роберт Меривел. Мы с Пирсом в одно время изучали медицину в Кембридже.
— С Джоном. Его не называют Пирсом. А меня все зовут Амбросом.
— Для меня он всегда будет Пирсом. Так же, как я для него Меривелом.
— Здесь он Джон.
— Выходит, я буду Робертом?
— А я Амбросом. Теперь пришло время назвать вам наши постройки. Сам дом и все заведение зовется «Уитлси», там живем мы, основатели и хранители клиники, нас шестеро, там мы спим и едим. А три барака или asiles,[58] то есть приюты, носят имена Джорджа Фокса,[59] Маргарет Фелл и Уильяма Гарвея.
Несмотря на волнение, я не смог удержаться от улыбки. Даже здесь, в этом уединенном месте, где росло одно лишь дерево. Пирс не забыл своего учителя — великий УГ, можно сказать, всегда находился с ним, циркулируя вместе с кровью.
— А какой из бараков носит имя Уильяма Гарвея? — спросил я.
— Тот, что меньше остальных, — ответил Амброс, — слева от нас, вон там. В нем содержатся самые тяжелые больные.
Мы направились к дому, и тут как раз из него вышел Пирс. При виде меня он стал, как рыба, судорожно глотать воздух. А потом, как я и предсказывал, неуклюже побежал ко мне.
Эту ночь я провел в постели Пирса, себе он постелил соломенный тюфячок на полу. Должен признаться, сознание мое блуждало в местах еще более странных, чем эта комната, подобное состояние трудно было назвать сном — скорее, чередой каких-то призрачных видений. Каждый раз, когда, казалось, я погружаюсь в сон, мне слышался голос короля, повторявшего снова и снова: «Я расплавил тебя, Меривел. Вот я и расплавил тебя. Но не как серебро. Не как серебро…»
Прошел месяц. Наступил апрель. Весь этот месяц, проведенный в «Уитлси», я был сам не свой. Однако этим утром, поймав свое отражение в оконном стекле, я вновь увидел его — человека, которого вы теперь уже хорошо знаете, того, кто носит алый камзол, шута Меривела. Мне трудно отказаться от сентиментальной нежности к этому человеку, и это заставляет меня краснеть — и от нахлынувших чувств, и от стыда. Эта неленость и вынуждает меня продолжать рассказ, несмотря на пугающее открытие: войдя в ворота Нового Бедлама, я перешел из одной жизни в другую и таким образом как бы подвел некий итог. На некоторых вещах можно определенно ставить крест — на доме в Биднолде, красоте моего парка, присутствии Селии за моим столом. Ни я, ни вы не увидим их больше. Их уничтожил не обычный огонь, как моих драгоценных родителей, а вспышка недовольства короля. Так что для меня они как бы обратились в прах, то же должны чувствовать и вы: ведь и вы никогда больше не вернетесь к ним.