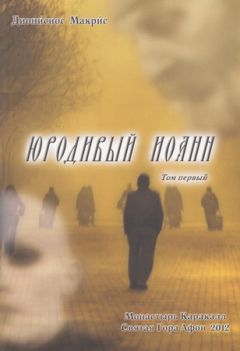Он прошептал, отрывисто дыша:
— Сара, иди сюда. Скорее.
Брат постоянно ходил с озабоченным лицом, но на этот раз в его голосе было что-то другое, был страх, от которого у меня сжалось сердце.
— Это он? Это он идет? — спросила я.
Голова закружилась, и меня охватила паника. Вот и дождались. Нас просто уведут, и никто не скажет нам ни слова на прощание. Со двора донеслось тихое злобное рычание, это пес давал знать, что у нас непрошеные гости. Я полезла по лестнице на сеновал, гадая, почему пес не лает яростно, во весь голос, как он обычно делал. Я встала рядом с Томом на сеновале и, когда он показал на дорогу, увидела собаку. Она шла в нашу сторону, шатаясь, как пьяная. Вокруг пасти выступила пена, язык вывалился. Собака быстро и тяжело дышала, будто ей пришлось долго бежать. Наш пес попятился, потянув за собой цепь, перестал рычать и жалобно заскулил. Дворняга, пошатываясь, продолжала двигаться к нашему псу и остановилась в двадцати-тридцати ярдах от амбара. Она нагнула голову до самой земли, и стекающая пена из пасти смешалась с пылью, образовав темную лужу. Вдруг она оскалилась.
До того как бешеное животное нападет, есть немного времени, иногда несколько секунд, иногда минут. Словно болезнь сгущает мозг и кровь, и поэтому голова работает медленно, урывками. Я глянула вниз, на открытую дверь, и поняла, что, разделавшись с нашим псом, бешеная собака может вбежать в амбар и напасть на Ханну, прежде чем я успею спуститься по лестнице.
— Том, — прошептала я, боясь отвести от дворняги глаза, — где ружье?
Он показал пальцем вниз. Я посмотрела туда и увидела ружье, прислоненное к балке. Наш пес, натянув цепь до предела, лежал неподвижно, прижавшись животом к земле. Он больше не скулил и не рвался, его челюсти были плотно сжаты, а клыки спрятаны. Я слышала, как Ханна напевает и разговаривает сама с собой, поэтому, улучив момент, я на нее шикнула. Собака медленно повернула голову в нашу сторону и уставилась в открытую дверь налитыми кровью глазами. Сделала шаг-другой, потом остановилась. Из ее горла послышался низкий скрипучий звук, и дворняга громко чихнула, разбрызгивая пену, свисающую из пасти, на несколько ярдов вокруг. С каждой секундой мне становилось все страшнее двинуться с места — я боялась, что, если пошевелюсь, собака бросится в амбар. Но каждое мгновение, пока она оставалась неподвижной, я корила себя за то, что не кинулась к Ханне и не подняла ее на сеновал, на безопасную высоту. Собака сделала еще несколько шагов, и я приготовилась рвануться с места, чтобы схватить сестру.
— Не успеешь, — тихо сказал Том, взяв меня за руку.
Он достал из кармана несколько мелких предметов, которые звякнули друг о друга, когда он зажал их в кулаке. Отведя назад руку, Том бросил камешек, который описал в воздухе дугу и приземлился в двадцати футах позади дворняги. Брат действовал без промедления, с уверенностью мальчишки, который стоит в речке и целится в мишень на дальнем берегу. С удивленным видом собака повернулась на шум. Том бросил еще один камешек, который приземлился на десять футов дальше первого. Дворняга зарычала и ринулась в поднятую камешками пыль. Потом остановилась, качаясь на непослушных лапах, и стала разглядывать пойманную добычу. Вдруг что-то отвлекло ее внимание — то ли тень пролетающей птицы, то ли прыгающая белка, то ли шуршащая на ветру листва, и, спотыкаясь, она побрела прочь по дороге. Весь оставшийся день, пока мы, обливаясь потом, работали в амбаре и на огороде, я наблюдала за худенькой, сгорбленной фигурой брата и не переставала удивляться его хладнокровности и сообразительности. После того как собака исчезла, у меня так задрожали ноги, что я не могла встать. Это Том помог мне подняться и спуститься по лестнице. Это Том подхватил Ханну и, к немалому удивлению девочки, стал ее качать, прижимая к груди. Это Том уверенно взял кремневое ружье и прошел около сорока ярдов по Бостонскому тракту в поисках собаки, которую готов был пристрелить одним выстрелом в голову.
На закате дня, когда мы сидели на заднем крыльце в ожидании, пока из окутанного маревом папортника-орляка на опушке леса Фоллс-Вудс не покажется высокая фигура отца, Том повернулся ко мне и сказал:
— Не такой уж я непутевый.
Я посмотрела на него с удивлением, а он утер рукавами пот с грязного лба. Пуговицы с этих рукавов были оторваны, чтобы сделать глаза для моей куклы, точнее, для куклы, которую я подарила Маргарет.
— Ты не одна на этой ферме, — продолжал он сдавленным голосом, — кто может о нас позаботиться, когда отца нет дома.
Я хотела возразить, но он оборвал меня:
— Это видно по тому, как ты на меня смотришь. Как не берешь меня в расчет, как глядишь на меня с жалостью. Там, на сеновале, ты не раз хотела попросить о помощи. Но я ведь ничуть не хуже тебя. Могу работать так же, как ты. Могу заботиться о нас так же, как и ты.
Он смотрел на меня вызывающе. Брови были сведены, темные кудряшки выбивались из-за ушей. Я подумала о камешках у него в кармане. Кто знает, сколько дней или недель он носил их с собой. Боеприпасы любого мальчишки для охоты на птиц или метания «блинчиков» по гладкой поверхности пруда. Спокойно и уверенно он использовал их, чтобы спасти нас от несчастья.
— Я скучаю по ней не меньше, чем ты, — сказал он, зажав ладони между колен и напрягшись, чтобы не заплакать.
Но как только он произнес эти слова, я увидела страдание, что пролегло темными, как синяки, тенями у него под глазами и свело рот в постоянную хмурую гримасу. Большим пальцем я стерла небольшое пятно грязи у него на щеке, которое он пропустил, утираясь рукавом.
— Теперь, в отсутствие отца, я старший на ферме. И могу о нас позаботиться, — сказал он, потянув меня за фартук, чтобы я села поближе.
Я думала, он возьмет меня за руку или обнимет за плечи, но он этого не сделал. Только его коленка упиралась в мою. Но, несмотря на это, я почувствовала, как у меня с плеч упал тяжелый груз, казавшийся вечным. Мы долго сидели рядышком, и солнце позади нас отбрасывало длинные тени на поля, простиравшиеся до Ковшового луга.
Тридцатого июля тетю Мэри снова арестовали в Биллерике и привезли в деревню Салем для допроса. Ее отпустили после того, как допросили мать, но ее вновь обвинила Мэри Лейси, и тетушка вместе с Маргарет должны были предстать перед судьями. После долгого допроса с пытками она в конце концов призналась, что причинила страдания Тимоти Свону и другим, и сказала, что посещала шабаши ведьм вместе с моей матерью и двумя моими братьями. На одном их этих черных шабашей моя мать якобы сказала ей, что в нашей округе не менее трехсот пяти ведьм и что их цель — уничтожить Царствие Христово и создать царствие Сатаны. Она сказала, что дьявол явился ей в образе смуглого человека и пообещал, что спасет ее от индейцев, если она подпишет книгу дьявола. Когда у нее спросили, хотела ли она служить Сатане, эта добрая и мягкая женщина ответила, что поскольку страшно боится индейцев, то готова быть ему предана всем своим сердцем, лишь бы он спас ее от них. Первого августа, когда они с Маргарет сидели в тюрьме, небольшой отряд индейцев-вабанаки напал на дома их соседей в Биллерике. Они убили всех до одного — мужчин, женщин и детей. Дьявол сдержал свое обещание, и, возможно, по этой причине тетя не отказалась от признания своей вины, как делали многие, когда за ними захлопывались двери тюрьмы.
Третья сессия Особого суда началась во вторник второго августа и длилась четыре дня. И почти два дня заняло вынесение приговора моей матери. Устные свидетельства против нее давали: Мэри Лейси, которую привели из тюремной камеры, Фиби Чандлер и Аллен Тутейкер. И несмотря на то, что Ричард и Эндрю под присягой свидетельствовали против нее, Коттон Матер решил игнорировать эти свидетельства ввиду большого числа «спектральных»[3] доказательств других свидетелей. Это было единственным проявлением снисхождения от человека, который позднее назовет мою мать, единственную женщину в колониях, не склонившую голову перед своими обвинителями и давшую им отпор, «необузданной ведьмой».
Ее приговорили к повешению девятнадцатого августа вместе с преподобным отцом Джорджем Берроузом, бывшим пастором деревни Салем, Джоном Проктором, написавшим губернатору о пытках моих братьев, Джорджем Джейкобсом, старым бродягой из Салема, и Джоном Уиллардом, молодым человеком, который лечил одну из одержимых девушек и который, проснувшись однажды утром, понял, что руку, творящую добро, часто кусают в первую очередь.
Десятого августа я проснулась совершенно спокойной. Накануне было жарко, как обычно, но вечер выдался на редкость прохладным. Настолько, что, прежде чем улечься спать, я взобралась по лестнице на чердак и вытащила из бабушкиного сундука старое лоскутное одеяло. Под одеялом лежала вышивка, которую так любовно сделала для меня Маргарет, а в нее был завернут старинный глиняный черепок. Я засунула и то и другое себе под сорочку и легла под одеяло, обнимая Ханну. Острый черепок впивался между ребрами, как обвиняющий перст. Встав с постели, я оделась с особой тщательностью, вырвала колтуны, против которых был бессилен гребень, и аккуратно заправила пряди под чепец. Против обыкновения, я надела чулки и прошлась тряпкой по туфлям, отчего из-под слоя грязи выступила кожа. Как могла, приготовила завтрак для нас четверых, а потом вышла на крыльцо и, повернувшись на север, стала ждать своего гостя. Я знала, что он явится сегодня, как мать всегда знала, что зайдет какой-нибудь сосед, не сообщивший заранее о своем визите.