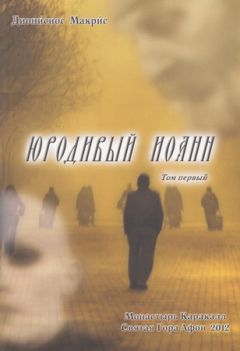Десятого августа я проснулась совершенно спокойной. Накануне было жарко, как обычно, но вечер выдался на редкость прохладным. Настолько, что, прежде чем улечься спать, я взобралась по лестнице на чердак и вытащила из бабушкиного сундука старое лоскутное одеяло. Под одеялом лежала вышивка, которую так любовно сделала для меня Маргарет, а в нее был завернут старинный глиняный черепок. Я засунула и то и другое себе под сорочку и легла под одеяло, обнимая Ханну. Острый черепок впивался между ребрами, как обвиняющий перст. Встав с постели, я оделась с особой тщательностью, вырвала колтуны, против которых был бессилен гребень, и аккуратно заправила пряди под чепец. Против обыкновения, я надела чулки и прошлась тряпкой по туфлям, отчего из-под слоя грязи выступила кожа. Как могла, приготовила завтрак для нас четверых, а потом вышла на крыльцо и, повернувшись на север, стала ждать своего гостя. Я знала, что он явится сегодня, как мать всегда знала, что зайдет какой-нибудь сосед, не сообщивший заранее о своем визите.
Констебль не заставил себя долго ждать и привез ордер на меня и на Тома. Думаю, он был немало удивлен, застав маленького часового на пороге дома в полной готовности. Он помахал ордерами перед носом отца, но отец даже не взглянул на них. Отец не отрывал взгляда от глаз констебля, и вскоре я почувствовала кислый запах страха, исходящий от последнего горячими волнами. Увидев в руках у Ханны куклу, он вырвал ее со словами:
— Мне велено доставлять в суд все куклы, что найдутся.
Ханна продолжала монотонно и громко хныкать, пока нас вели через двор и сажали в телегу. Нас связали, но не туго, и через несколько минут мы высвободились из пут и сидели, держась за руки.
Пока констебль садился на козлы и брал в руки поводья, отец держал коня за узду так крепко, что конь не мог поднять головы.
— Ты меня знаешь, Джон Баллард.
— Да, я тебя знаю, — ответил констебль еле слышно.
— И я тебя знаю. Поэтому мои дети прибудут в Салем целыми и невредимыми, какими уехали.
На этом отец отпустил уздечку и сделал шаг назад, чтобы нагнуться, схватить Ханну за сорочку и вытащить из-под колес телеги.
Джон Баллард рванул поводья.
— Я детям вреда не причиню, — пообещал он. — Но после того, как я их доставлю, моя власть кончится.
И мы с Томом, сидя рядышком, покатили по Бостонскому тракту. Ханна бежала следом, плакала и громко звала нас назад, ибо ей было страшно оставаться одной с отцом, который стоял посреди двора, высокий и неподвижный.
В ту среду десятого августа, в молитвенном доме, превращенном в зал суда, было девять судей. Кроме них — судебные заседатели, истцы, свидетели и зеваки. Народу было так много, что взрослым мужчинам приходилось сидеть друг у друга на коленях, чтобы увидеть допрос таких маленьких детей. Среди обвиняемых мы были самыми младшими, не считая четырехлетней Доркас Гуд, и, когда нас вели через толпу и поставили перед собравшимися судьями, все глаза, все жесты и вздохи были направлены в нашу сторону. Джон Баллард протянул главному судье мою куклу и, когда ордер был подписан, ушел, даже не обернувшись на нас. Судьи перебирали бумаги и переговаривались между собой тихими, спокойными голосами. Я украдкой взглянула направо и налево из-под опущенных ресниц, чтобы увидеть их лица. Сердце громко билось у меня в груди, а перед глазами летали черные точки, словно удары моего сердца привели в движение сам воздух. Я почувствовала, как Том придвинулся ко мне и встал так, чтобы плечом касаться моего плеча.
Кукла, порванная и покалеченная Ханной, передавалась судьями из рук в руки. Серьезность, с которой они изучали куклу, в такой степени не вязалась с их задачей, что мои губы задрожали и стали складываться в улыбку. В то же мгновение я почувствовала, как от страха у меня в животе начал зарождаться нервный булькающий смех, и, чтобы не дать ему вырваться наружу, зажала рот рукой. Тот же непроизвольный смех, что был вызван гримасами черного мальчика в молитвенном доме Андовера, мог выставить меня глупой мартышкой перед глазами людей, которые одним словом могли положить конец моей жизни. Справа от меня возникла какая-то суматоха, и когда я повернула голову, то увидела группу молодых женщин и девушек, которые бились в мучительной истерике. Их рты были зажаты руками, и девушки силились оторвать ладони от лица, но руки не слушались, словно приколоченные гвоздями. Несчастные страдалицы пытались что-то сказать сквозь пальцы, но слышались лишь хриплые звуки и стоны.
Одной из девушек удалось наконец выговорить:
— Она пытается заставить нас молчать. Чтобы мы не могли дать показаний. Ох, мой язык, мой язык горит…
Я снова перевела взгляд на судей, и главный судья Джон Хоторн, тот самый, что приговорил мою мать к повешению, мрачно спросил:
— И как давно ты стала ведьмой?
Я не могла ответить сразу — не могла убрать руку ото рта, и ему пришлось повторить вопрос. Он нагнулся и говорил медленно и раздельно, как говорят со слабоумным ребенком:
— Как давно ты стала ведьмой?
Я убрала руку и сказала:
— В шесть лет.
Все разом ахнули, и разговоры среди зрителей тотчас прекратились, ибо люди не хотели пропустить что-нибудь важное.
— Сколько тебе сейчас лет? — спросил Джон Хоторн.
— Почти одиннадцать.
Я чувствовала, как Том на меня смотрит, и ради него попыталась унять дрожание губ.
Судья помолчал, давая возможность писарю записать мои слова на бумагу, а потом неожиданно, чтобы застать меня врасплох, спросил:
— Кто сделал тебя ведьмой?
Я смотрела на него круглыми от ужаса глазами. Рот открылся, чтобы глотнуть воздуха, которого вдруг не стало в моих легких, но я не могла выдавить из себя ни слова. Я готова была рассказать им любую историю, подтверждающую мою вину. Что летала, босоногая, на метле, что пекла хлеб для ведьминого алтаря, что плясала на могилах их матерей. И вот время пришло, и так скоро. Я знала, какого ответа они от меня ждут, но сказать ничего не могла. Я будто стояла на утесе над океаном: позади отвесные скалы, забраться по ним невозможно; прыгать вниз, в водоворот, слишком страшно. Время шло, и я слышала, как сидящие рядом девушки начали беспокойно ерзать — им не терпелось назвать имя, а то сразу два или три, если я откажусь произнести то единственное, которое впишут чернилами на приготовленном заранее пергаменте. Том вложил что-то в мою руку, я почувствовала гладкую твердость речного камешка и крепко зажала его в кулаке. А потом назвала имя, которое они ждали. Имя женщины, которая уже сидела в тюрьме и ждала смерти.
Я сделала шаг назад от края обрыва и сказала:
— Моя мать.
Все вокруг удовлетворенно закивали, а затем один из судей спросил у Джона Хоторна натужным шепотом:
— Как это было?
Главный судья повернулся ко мне и повторил вопрос громко, будто говорил с глухой.
— Она заставила меня положить руку на книгу.
Сидящие передо мной на судейской скамье вздохнули с облегчением и радостью, будто я достала из-под фартука свежеиспеченную буханку хлеба. Я всматривалась в их лица и видела в глазах интерес и враждебность, любопытство и страх, но ни у одного во взгляде не было сочувствия или жалости или хотя бы сдержанной рассудительности. Позади меня раздался какой-то тихий животный звук. Я обернулась и увидела, что одна из одержимых девушек мяукает, как кошка. На ней было такое же серо-коричневое домотканое платье, как у меня, и такой же простой чепец, как у меня. И волосы были такого же медного цвета. Мы могли бы быть сестрами. Но в ее глазах я увидела только злобу. Мне вдруг сделалось дурно, в глазах потемнело, и я крепко сжала руку Тома.
Потом судья Хоторн сказал мне: «Продолжай», но мне словно ватой заткнули уши, и я только видела, как шевелятся его губы, но не понимала смысла его слов. Колени подкосились, и я почувствовала, как Том подхватил меня и попытался поставить на ноги. Тогда главный судья подал знак писарю, чтобы тот прервал запись, и, сложив ладони, сказал, обращаясь ко мне:
— Ты знаешь, где находишься? — Я кивнула, и он продолжил: — Ты знаешь, к кому обращаешься? — (Я снова кивнула.) — Тогда ты знаешь, что мы ждем от тебя правды. Ты должна отвечать на все вопросы полно и охотно, иначе все для тебя может плохо кончиться. Понимаешь, что я говорю? Не жди от нас снисходительности из-за своего юного возраста. Если не расскажешь нам все о своем ведовстве, подвергнешь опасности свою бессмертную душу. Телом можно пожертвовать, но если потеряна душа — она потеряна навечно.
Его слова проникли сквозь вату, и последующая за этим тишина была сродни той, что наступает перед тем, как топор опускается на положенную на колоду курицу. А когда топор наконец падает, врезаясь в кости и плоть, раздается негромкий приглушенный звук, будто щелкает засов, запирающий дверь навсегда, или стопка бумаг шлепается на стол одного судьи, когда ее перекладывают со стола другого. Судья Хоторн дал знак писарю приготовиться и снова спросил: