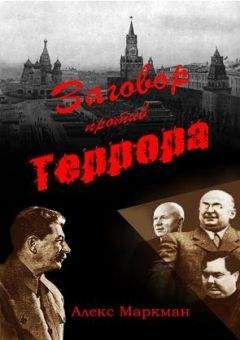Софа замерла в его объятиях.
— Я уверена, что ты не занимаешься грязными делами.
— Мы все, так или иначе, завязаны, — сказал Кирилл. — Даже те, кто не хочет этим заниматься и не идет против своей совести. Оставим это. Я с самого начала хотел поговорить с тобой кое о чем, но уж очень не хотелось портить настроение во время отпуска.
— По чем же? — спросила Софа, крепче обхватив его ногами.
— Когда вернемся в Москву, подай на работе заявление об увольнении. По собственному желанию.
— Что? — вскрикнула Софа и разжала объятия. Но тут же ухватилась за его плечи, чтобы устоять в набегающих волнах. — Уволиться?
— Да. Уволься и уезжай из Москвы. Поедешь к моей маме. Поживешь у нее какое-то время.
— Зачем это?
— Яне могу тебе рассказать все подробности. А в общих чертах, сейчас начнутся аресты тех, кто даже отдаленно был связан с ЕАК. Ты наверняка попадешь в списки.
Софа с ужасом уставилась на него.
— Это ничего не решит, — сказала она тихо. — Они найдут меня на краю света.
— Не совсем так. Для этого нужно объявить всесоюзный розыск. А у них и без тебя хватает работы. Пока до этого дойдет, многое может измениться. В худшем случае никто не сможет обвинить тебя в том, что ты скрывалась от ареста. Поверь мне, время будет на твоей стороне.
— А как же с пропиской в Москве? — жалобно спросила она.
Кирилл саркастически хмыкнул.
— Речь идет о спасении жизни, а ты беспокоишься о прописке в Москве. В тюрьме и в могиле прописка не нужна. Я буду писать маме письма. Объясню, как понимать то, что касается тебя.
— А как же.
— Софа, сладость моя. Я люблю тебя. Но не задавай мне вопросы. Слушай и выполняй беспрекословно все, что я говорю. А когда все наладится, мы поженимся. Тогда все будет наоборот. Я буду слушать тебя и выполнять беспрекословно то, что ты говоришь. Согласна?
— Я верю тебе, Кирилл, — Софа обняла его за шею и прижалась к нему, обмякшая и покорная. — Будь, что будет.
//__ * * * __//
По приезде в Москву Кирилл сразу же окунулся в работу. В МГБ появились новые люди, наконец-то дорвавшиеся до власти. Их подчиненные, занятые допросами, со страхом предвидели недолгую расправу. Бал правил Рюмин. Его назначили одним из заместителей министра госбезопасности, и он вытрясал душу как из следователей, так и из арестованных. О его сумасбродстве и тупости ходили легенды, передаваемые полушепотом.
Начались новые аресты, и Кириллу поручили вести сразу несколько дел. Каждое из них нелепее другого. Что поделаешь: он допрашивал арестованных согласно букве и духу закона, но люди были напуганы до такой степени, что тут же признавались в преступлениях, которые им не под силу было ни задумать, ни совершить. Как правило, этим страдали новички, и их признания вины были особенно важны. Их помещали в камеры, расположенные близко к комнатам для допросов, чтобы хорошо были слышны крики тех, кто отказывался выдавать сообщников и не признавал преступлений, совершенных ими против партии и народа. Кирилл не пытался убедить их в абсурдности сделанных признаний, по крайней мере, они избегнут пыток. А показания их выглядели настолько нелогично, что любой справедливый суд завернул бы дело на доследование, а несправедливому суду вообще ничего не было нужно, кроме решения Политбюро.
Панин во время их коротких встреч напивался быстрее обычного, и сразу начинал материться, даже на людях не пытаясь осторожничать. Недавно, специально не дожидаясь момента, когда алкоголь как следует вдарит по мозгам, задал вопрос, от которого у Кирилла остро засосало под ложечкой.
— Ты помнишь, спрашивал меня, не попадалась ли мне фамилия Шигалевич?
— Да. — Ответ получился хриплый, едва слышный. Кирилл, поперхнувшись, закашлялся и уставился на Панина, ожидая продолжения.
— Его передали мне.
— Тебе?
— Тот, который обрабатывал Шигалевича, сказал, что этого жида перед смертью нужно было бы занести в книгу рекордов. Старый уже, а выдержал все. Чуть было не замучили его до смерти, за это и поплатились. Ведь надо, чтоб все признавали, а не сдыхали. После Этингера наша братия боится смертей в камерах и на допросах.
— В чем его обвиняют?
— В основном в сотрудничестве с ЕАК. Но также он каким-то образом связан с врачами. Правда, по этой части мало что удалось обнаружить.
— А ты что? Допрашивал его?
— Я таких людей никогда раньше не видел. Его ненависть к нам не имеет предела. Я имею в виду. Он говорит: я — ученый, я знаю, что уровень боли имеет порог, за пределами которого наступает смерть. Надеюсь, говорит, что вы доведете меня скоро до этой границы. Но не могу перешагнуть порог своих принципов. Оболгать людей, признаться в том, чего никогда не совершал, значит уступить вам, мерзавцам, исчадьям рода человеческого. Я, знаешь, окаменел, с минуту не мог продолжать допрос. Ничего этого я в протокол не записал. Принес только свой отчет, что нет состава преступления. Поцапался с Рюминым. Он орал на меня, грозился сгноить. Сейчас, когда хулиганье у власти, все может произойти. Так что вот так. Звенят у меня в ушах его слова. День и ночь.
Через несколько дней после этой встречи Панин позвонил ему в кабинет.
— Загляни ко мне на минуту.
По голосу Кирилл заподозрил что-то неладное. Он примчался, не теряя ни секунды. Панин сидел, откинувшись на спинку стула, и смотрел на стопки бумаг, аккуратно разложенные на столе.
— Что случилось?
— То, чего я ожидал, — безучастно ответил Панин. — Приказано мне передать тебе вот эти дела. — Он кивнул в сторону бумаг. — Забирай их. Там же дело Шигалевича.
— А. ты?
— Сейчас меня арестуют. Быстро забирай и уходи. Готовься к худшему. Скоро будет много арестов в МТБ.
Домой Кирилл возвращался не спеша, в глубокой задумчивости. Торопиться было некуда: Софа недавно, хотя и не без труда, получила запись в трудовой книжке: «уволена по собственному желанию». Сказала, что уезжает к тетке в Ленинград. Заперла комнату, оставила ключ у Кирилла, и вся заплаканная уехала к его матери.
Как Кирилл ни откладывал допрос Шигалевича, а этот день наступил, как дни, и начался хмурым рассветом. Сердце гулко стукнуло, когда Шигалевича ввели в его кабинет. Выглядел он много старше своих лет, неопрятно и угрюмо. Кирилла сразу узнал, но не подал виду. Он смотрел Кириллу в глаза твердо, сурово, с ненавистью, в которой проглядывала усталость.
— Здравствуйте, Арон Исакович, — начал разговор Кирилл, облизывая пересохшие губы.
Шигалевич ничего не ответил.
— Не буду повторять вам, в чем вас обвиняют, — Кирилл не мог сообразить, с чего начинать допрос.
— Можете повторить, — отозвался Шигалевич надтреснувшим голосом. — Это ничего не изменит.
— Знаю, знаю, — согласился Кирилл. — Не буду настаивать, чтобы вы признали свою вину. Ведь никакой вины нет. Но я вынужден соблюдать формальности.
Шигалевич презрительно опустил уголки губ.
— Тогда, может, прекратим допрос сейчас, и вы отправите меня обратно в камеру?
— Формально я должен задать вам несколько вопросов по существу обвинения. Отвечайте так, как считаете нужным.
Шигалевич хмыкнул.
— Никак не нужно.
— Хотите курить? — спросил Кирилл и подвинул Шигаловичу пачку «Казбека».
— Нет, не хочу. Мне ничего от вас не нужно.
— Послушайте, Шигалевич, — медленно и строго заговорил Кирилл. — Я хочу, чтобы вы, наконец, поняли, я вам не враг. Я сделаю для вас все, что в моих силах. Хотите вы, чтобы я вам помог?
— Я хочу только одного: поскорее умереть, — безучастным тоном ответил Шигалевич. — И не потому, что я не могу больше выносить эти муки. Я вынес бы все, чтобы жить. Я люблю жизнь. Но мне противно видеть вас и вам подобных. Это сильнее физической
боли. Не передать словами, как вы все мне противны. Я — ученый, но моему интеллекту недоступно, каким образом появляются такие люди.
Кирилл глубоко вздохнул, и решил перейти на вопросы по существу дела.
— Вы можете назвать людей, с которыми вы были знакомы в ЕАК?
Шигалевич пожал плечами.
— Я был знаком с Михоэлсом. Но даже на мертвого я не дам ложных показаний. Это был замечательный человек, выдающаяся личность.
— Кого еще вы знали в ЕАК?
— Фефера. Всех, кого вы арестовали.
— А кроме них?
— Кроме них? Вы знаете, кого кроме них.
— Шигалевич, — повысил голос Кирилл, глядя ему в глаза не мигая. — Запомните: я никого не знал, кроме некоторых из арестованных. Никого не знал. Понятно?
Искра понимания вспыхнула в глазах Шигалевича. Он уставился себе под ноги.
— Да, да. Я понимаю.
— Я постараюсь сделать для вас все, что могу, Арон Исакович.
— Тогда отправьте меня обратно в камеру.
— Подождите пять минут. Я сделаю последнюю запись.