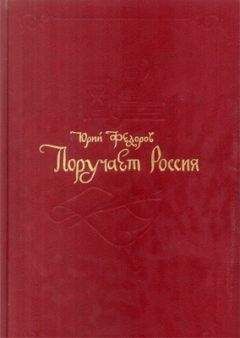— Богомаз нам не нужен, — сказал отец протопоп слабым голосом, — но вот по хозяйству помочь — то можно. Богу всякая работа люба.
— Готов я и по хозяйству, — ответил Черемной. Подумал: «Знаю вас, чертей, скажи только: «Задарма работать буду», — вы и ума не сложите, что приказать».
— Как звать-то? — спросил протопоп.
— Федькой.
— Иди, раб божий Федор, к ключарю. Он укажет.
Махнул рукой и прикрыл глаза прозрачными веками. Черемной поклонился в ноги. Для истовости на колени встал. Заметил: отцу протопопу то понравилось. Лицо у него подобрело. Вышел. Бескостный стоял на прежнем месте. Федор спросил:
— Мне бы ключаря.
— А я и есть ключарь, — ответил тот.
Федор обсказал ему разговор свой с протопопом.
— Пойдем, — кивнул ключарь и повел на конюшню.
На конюшне навоз горой. Черемной как взглянул, шапка чуть не упала.
— Уберешь, — сказал бескостный, — другой урок дадим.
И, больше слова не проронив, заскользил по двору. Ушел.
Федор постоял-постоял, приглядываясь, с какого краю получше к куче подступиться, и взялся за вилы. К работе черной был он непривычен, и вилы в ладони тяжеленько ему легли. С досады покряхтел, но что делать: урок-то выполнить надо. Весь день провозился Черемной на конюшне и спину изломал — не разогнуться. К тому же и жрать за день не дали и малой крошки. Присел уже в сумерках, отвалился к стене, дышал трудно. Загнали малого, как скотинку на пахоте.
Пришел ключарь. Глянул сонно, позвал с собой. Федор шел за ним следом, а пудовые ноги не слушаются, гнутся. Вот как хлебушек-то добывается, ежели трудом, а не подьяческим крючкотворством. Соленый он. Сочтешь кусочки такие и ради баловства, от полного пуза, не укусишь. Спотыкался Федор, а вьюн — за день-то, наверное, хребет не очень утрудил — поспешал легко.
Пришли в церковную боковушку. Но натоплено здесь было и три свечи горели в шандале. Стол добрый стоял, по стенам лежанки, дерюжками чистыми накрытые. Черемной огляделся и не устоял. Сунулся к лавке, сел. Бескостный глянул на него, но промолчал.
Отворилась боковая дверца, и вошел человек. Бородища черная от глаз растет, а сам — поперек шире. Но без жиру, жилистый. Лицо звероподобное — рта за бородой не видно, под глазами бугры. Человек за собой дверь ногой прикрыл и на стол церковную посудину поставил с большим бережением.
— Звонарь наш, — сказал о нем вьюн, — ты громче говори. Уши ему колоколами отбило.
Федор к посудине пригляделся да так и ахнул: купель на столе, в которую православных при крещении опускают. И полна до краев водки. Ключарь рыбы достал вяленой, калач, вареное мясо. Глазами пошарил и с полки снял миску с огурцами.
Сели за стол, не перекрестив лба. Пили из одной кружки. Передавали по кругу. Поровну выходило. Федор не отказывался: намордовался за день.
Когда в груди отлегло от дневных трудов, приглядываться стал. Звонарь — то понятно — силы был, видно, недюжинной, и кружку за кружкой опрастывая, не хмелел. А вот как вьюн бескостный от него не отставал — диву давался Черемной. Между прочим подумал: «Мужику серому когда еще выйдет склянка с зельем водочным. А эти из бутылей или там штофов уже не жрут. Им купель подавай». Но мысль та о мужике пришла к нему невзначай. Мужик-то ему был ни к чему.
— Протопоп намедни жаловался, — сказал ключарь, — дохода у церкви нет.
— Как так? — спросил без любопытства Черемной.
— А так вот. Царь столицу в Питербурх перевел, и народ из Москвы уходить стал. При Алексее-то Михайловиче в первопрестольной, почитай, двести тысяч народу было, а сейчас на четверть почти ушло.
Черемной, как глупый, глаза раскрыл: не понимаю-де, что с того?
— А ты посчитай, — сказал ключарь, — ежели с каждого ушедшего по одной только копеечке за свечу — сколько церковь потеряла? А крестины, — вьюн щелкнул ногтем по купели, — а свадьбы, а отпевания… Всего не перечтешь. Плачут отцы от царевых указов.
Звонарь поднялся, наклонил купель, слил в кружку последние капли.
— Вот спроси его, — вьюн показал на звонаря, — сколько получал, как заказывали ему о покойнике отзвонить?
Звонарь слова разобрал, засопел, под глазами бугры красным налились.
— То-то, — крякнул ключарь. Откинулся на лавке. — Юрода нам нужно. Может, с ним дело поправится.
Федор навострился на бескостного.
— Если у церкви юрод, — засмеялся ключарь, — народ валом валит. Кружки с даяниями только успевай оттаскивать. У нас был такой… — Хохотнул: — Семь раз на колокольню поднимался и звонарю семь раз по золотому отваливал.
— Так где же он? — спросил Черемной.
— Ушел.
— Позвать можно.
— Далеко ходить.
— Да я за святую Анну, за благословение ее, — Федор закрестился часто-часто, — хоть на край света.
— Дорога опасна. Драгуны царские загораживают.
— Мне все нипочем. — Федор еще раз перекрестился.
— А что, — сказал вдруг ключарь, — может, и впрямь послать тебя? Человек ты не московский. Богомаз опять же… На богомолье идешь. Все сходится… В Суздаль идти-то. В монастырь. Поговорим с отцом протопопом. — Буквица за буквицей повторил: — По-го-во-рим…
Помолчали. Звонарь желваки катал на скулах. Вьюн вскочил из-за стола, как подброшенный:
— Еще, что ли, по стаканчику!
Нагнулся и из-под лавки, у окна, достал штоф. Разговор пошел совсем уж вольный.
— Нет, — говорил вьюн, — раньше-то лучше жилось. Теперь придавили. Тряхнуть бы Москву как следует. Зашевелятся людишки. Петр-то не сахар. Полынь для многих.
Черемной закрестился робко:
— Что ты, что ты, власть-то за такие речи не похвалит.
— Эх ты, сосуд! — крикнул вьюн. — Власть-то она власть, а ты на нее поперек влазь, иначе задавит.
Вот каким пришибленный-то оказался. Ухарь.
В Париже переговоры как покатились, словно сани с горки, так и пошло. Оказывается, подтолкнуть только и надо было, да вот не знали, с какой стороны. Петр надоумил, а уж мысль его, что Франции без России промеж англичан и немца никак не устоять, Шафиров с Куракиным по-всякому вертели. От такого союза-де и, во-первых, прибыток, и, во-вторых, достаток, и, в-третьих, выгода. Тоже ловкие были ребята.
Теперь начались и застолья, и пиры. И хотя, как видели русские, черный народ жил в глубокой нищете, на пирах столы в королевских дворцах сверкали серебряной и золотой посудой, а вина и различные яства подавали в таком изобилии, что трудно было даже сказать, на какие аппетиты все то рассчитано.
Петр, несмотря на вновь пошатнувшееся здоровье, участие в пирах принимал. Даже знаменитую фаворитку Людовика XIV, госпожу Ментенон, посетил в Сент-Сире.
Почтенная дама пожаловалась на здоровье.
— Чем вы больны? — спросил Петр.
— Старостью, — ответила Ментенон.
— Сей болезни все мы подвержены, если будем долго жить, — сказал с поклоном Петр.
Ментенон и присутствующие при разговоре придворные были приятно обрадованы галантностью русского царя. И маленький тот эпизод в большой игре переговоров стал своей каплей масла.
Русские добивались, чтобы Франция признала завоевания России на Балтике. Речь шла о землях обширнейших. Здесь и Петербург, и Нарва, и остров Котлин, и территории Истляндские и Лифляндские, и многое-многое другое. Признать их за Россией — означало увековечить утверждение державы Российской у моря. С тем сбывалась Петрова мечта — твердой ногой стать на побережье, иметь выход России в Европу морем. Сколько ночей о том думалось, как мечталось, сколько страданий было принято! И уже стояли русские у моря, и корабли строили отменные, да вот бумагой закрепить завоеванное надо было за Россией.
Все шло хорошо, вроде и согласия французов добились, но, как только дело до подписания бумаг дошло, опять вышла закавыка. Французы начали жаться. Говорили: отойдут те земли России по договору со Швецией, тогда и они, со своей стороны, признают завоевания у моря.
Петр понял: в Европе сейчас беда его семейная с Алешкиным бегством многими учитывается. Ждали, чем-де все кончится. Говорили: Петр армией силен, но сам здоровьем некрепок, а ежели к власти в России сын его неверный придет, как повернет дело? И другое говорили: что-де наследнику все те завоевания у моря ни к чему и он им противник.
И вновь в Париже начались проволочки.
Петр предложил тогда искать путь к признанию морских земель за Россией по-иному — просить французский двор воздержаться от выплаты денежных субсидий королю шведскому. Известно было, что карман Карла XII пуст. А с пустым карманом много не навоюешь. Генералы Карла и так были недовольны постоянными задержками жалованья. Не будет у Карла золота, и ему ничего не останется, как начать переговоры с русскими и признать их завоевания у моря.
О том Петр, просидев ночь, написал записку. Шафиров сейчас перебелял ее, так как почерк у царя был неразборчив. Петр ходил по комнате, пояснял непонятные места. Лицо у него опять было нездорово. Сказывалось напряжение последних дней. Но болезнь свою царь скрывал и о болях, возобновившихся в низу живота, не сказал никому. Все силы, все помыслы его были устремлены на заключение договора. Речь-то шла о том, быть ли России со своими портами на Балтике, через которые торговля пойдет вольная, без постыдного посредничества иноземных купцов, или нет. А боль, что уж там! Боль пройдет.