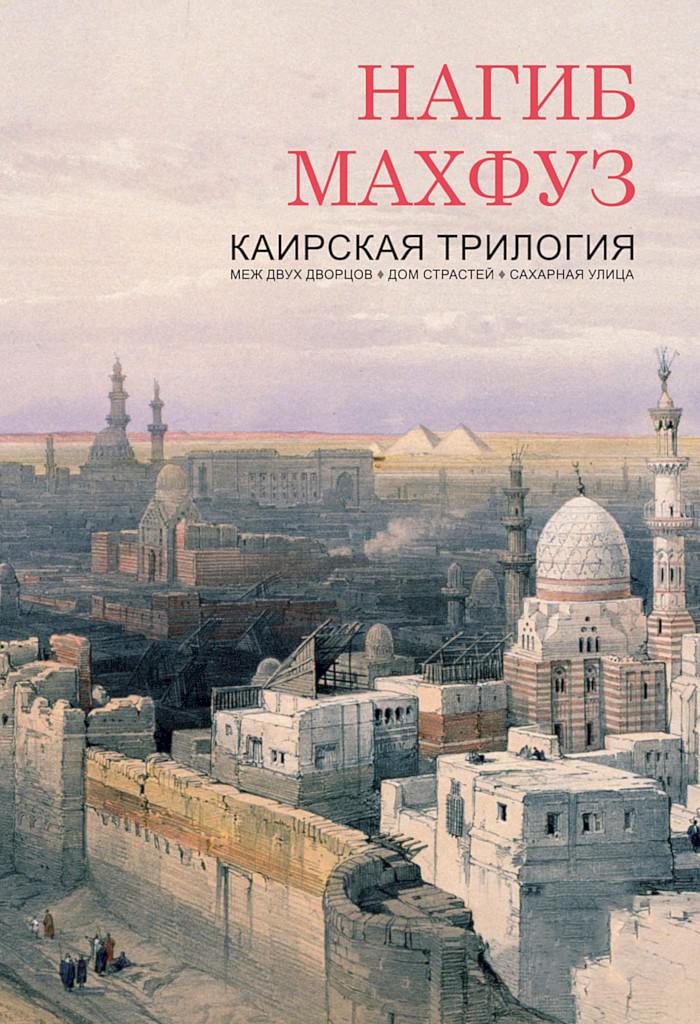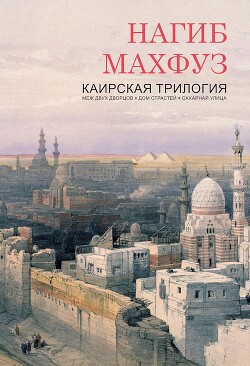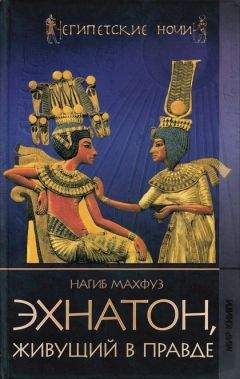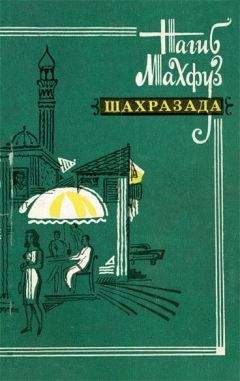были лавка с жареными закусками дядюшки Хасана и кухня дядюшки Сулеймана — всё это так и осталось без малейших изменений с тех пор.
На губах его почти заиграла улыбка ностальгии по детству — она уже была готова широко раскрыть его уста, если бы не горечь прошлого и беды настоящего…
Перед глазами его предстал переулок Каср аш-Шаук, и сердце его забилось настолько громко, что от этого пульса у него аж уши заложило. И тут откуда-то справа, с верхней улочки, мелькнула корзина с апельсинами и яблоками, поставленная прямо на тротуар, перед фруктовой лавкой. Он стал кусать губы от стыда. То было прошлое, запятнанное позором, и он старался зарыть поглубже голову в песок из-за смущения, и постоянно жаловался на боль и стыд. Но он был на одной чаше весов, а та лавка — на другой, и она перевешивала, ибо была живым символом прошлого. В её владельце, корзинах с фруктами, его воспоминаниях — во всём были перемешаны некие хвастливые срам и боль, кричавшие о его поражении. Если прошлое состояло для него из событий, и те воспоминания по природе своей служили забвению, и эта вот лавка была живым свидетелем, воплощавшим собой все его колебания и обнаруживавшим всё то, что было забыто. По мере приближения к этой улочке шаг за шагом он всё больше отступал от своего настоящего, и нарочно тратил время. Он словно увидел в лавке того самого мальчишку, что глядел на её владельца со словами: «Мама просит вас прийти сегодня вечером», или видел, как тот возвращается домой с кульком фруктов под мышкой и улыбаясь во весь рот, или как он по пути привлекает внимание матери к тому человеку, а она тащит его за руку в сторону от лавки, чтобы он не поймал их взглядом. Или как он ревёт навзрыд, увидя жестокое насилие того над его матерью. Каждый раз, когда ему на ум приходила та сцена — в свете уже собственного, теперешнего опыта, память о том отвратительном зрелище возвращалась, и картины начинали преследовать его, а он усиленно старался убежать от них. Но всякий раз, когда ему удавалось увернуться от одной из них, другая сжимала его словно в тисках. То была душа. Но он продолжал идти к своей цели, хоть и находился в ужаснейшем настроении.
«Как бы мне свернуть в этот переулок, если в самом начале его — та самая лавка… и тот самый человек? Интересно, он всё такой же?… Нет, я не заверну в ту сторону. Какая коварная сила может соблазнить меня туда заглянуть? Да и узнает ли он меня, если я посмотрю на него?.. Если по его взгляду я пойму, что узнал, то я убью его. Но как он может меня узнать?!.. Ни он, ни кто-либо другой из жителей квартала не узнает меня. Прошло уже одиннадцать лет. Я покинул его мальчишкой, а возвращаюсь этаким быком. С двумя рогами!.. Да и потом, разве не хватит у нас сил раздавить вредных насекомых, что по-прежнему нас жалят?…»
Он быстро направился к переулку, представляя себе его обителей, которые пытливо рассматривают его и спрашивают друг у друга: «Где и когда мы уже видели это лицо?» Он пошёл по дороге, что круто поднималась вверх, собирая вся свою решительность и отряхивая с лица и головы трепетавшую в воздухе пыль, приободряя в себе решимость. Он внимательно разглядывал предметы вокруг и говорил себе: «Тебе легко идти по этой трудной дороге, ведь в детстве ты столько раз радостно носился по ней на своей доске!» Он снова спросил себя, когда показались стены родного дома:
— Куда это я иду?!.. К матери!.. Как странно. Мне не верится. Как я встречу её, и как она меня встретит?… Как бы я хотел, чтобы…, - и он свернул направо, на узкую улочку, а оттуда направился затем к первой же двери по левую сторону. Вот он — тот старый дом, без малейшего сомнения.
Он пересёк дорогу, ведущую к дому, как делал это не раз, когда был маленьким, без колебаний и без вопросов, будто покинул его совсем недавно, и смело открыл дверь, правда, с каким-то непривычным волнением, и поднялся по лестнице, ступая медленно и тяжело. Несмотря на тревогу, он внимательно рассматривал дом, сравнивая его с тем образом, что хранил в своей памяти, и обнаружил, что лестница стала несколько теснее, чем раньше. Она обветшала в некоторых местах, отдельные мелкие детали с тех сторон, что выходили на лестничную клетку, отвалились. Воспоминания очень скоро набросили тень на настоящее. Он быстро преодолел все этажи, которые сдавали внаём, и очутился на самом последнем. Остановившись на несколько мгновений, подслушивал под дверью. Сердце его трепетало от волнения, затем он встряхнул плечами, будто не обращая внимания, и постучал в дверь.
Через минуту или около того дверь открыла служанка среднего возраста, и как только различила перед собой незнакомого мужчину, сразу же скрылась за дверью и вежливо спросила, кто ему нужен. Этот вопрос внезапно подействовал ему на нервы, и без всякой уважительной причины он счёл служанку невеждой, а потому, уверенно ступая, он прошёл прямиком в дом и направился в гостиную, при этом повелительным тоном произнёс:
— Скажи своей госпоже, что пришёл Ясин.
«Интересно, что подумает обо мне эта прислуга?», он обернулся ей вслед и увидел, как она быстрыми шагами направилась внутрь дома. Значит, его властный тон побудил её послушаться его, или же… Он прикусил губы, и стал вглядываться в глубь комнаты. Эта была комната для гостей, как он неосознанно и предположил. Но память его сохранила каждый угол дома, без всяких примет. Если бы он находился в других обстоятельствах, то воскресил бы в своих воспоминаниях баню, куда обычно уходил плакать, или машрабийю, из отверстий которой смотрел на свадебные процессии каждый вечер. Интересно, а сегодня там та же мебель, что была тогда, в том далёком прошлом?
Из всех старинных предметов интерьера он сохранил воспоминания только о длинном зеркале в золочёной рамке; по углам его расположились искусственные розочки разных цветов. Он сосредоточил взгляд на двух углах его, где стояли канделябры, с которых свешивались хрустальные капли-полумесяцы. Пока же он увлечённо разглядывал комнату, наполненную странной обстановкой, к которой — он помнил это — был привязан, даже если и