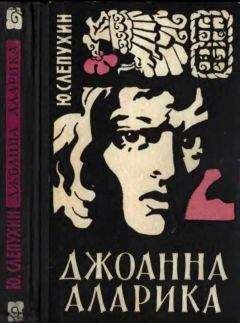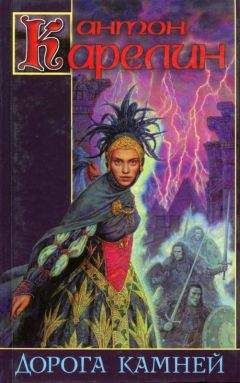— О чем ты думаешь? — спросила Ника.
— Я? Да так… практически ни о чем.
— Ужасно ты какой-то сегодня мрачный, — сказала она с упреком. — У тебя плохое настроение?
— Ну, что ты, — Андрей усмехнулся. — Настроение просто великолепное!
Вообще-то, конечно, сидеть таким бирюком было не очень прилично; он попытался прислушаться к тому, что говорилось за столом, но общего разговора уже не было, дамы трещали о каких-то туристских поездках, мужчины обсуждали свои служебные дела, Никина сестра издевалась над мужем за неумение подбирать сотрудников.
— …Это же феноменальная идиотка, — громко говорила она, не вынимая изо рта сигареты и морщась от дыма. — Я не понимаю, как ее можно вообще принимать всерьез. На втором курсе она считала клистрон неприличным словом, очевидно подозревая в нем этимологическую связь с клистиром.
— Да нет, ну это ты зря, — лениво возражал длинный. — Не такая уж она, как ты изображаешь… ну, работает и работает, чего уж. Как это там — «считает свои дробя»…
— Ты, Кострецов, молчи! Тебе дай волю, ты бы устроил из института богадельню, добрячок…
— …И вообразите, — тараторила маленькая дама с зелеными веками и волосами цвета красного дерева, — не проходит и часа — звонит Элла Сидоровна из райкома: милочка, говорит, приезжайте немедленно, есть путевка в Сирию и Ливан, вам тут же все оформят, только поторопитесь, до обеда я ее задержу…
— …И опять, стервец, начинает свою волынку. Я в десятый раз все выслушал, — поймите, говорю, дорогой Терентий Александрович, не один ваш завод в таком положении, я твердо обещаю вам поставить этот вопрос на ближайшей коллегии министерства…
— Ну, если ты рассчитываешь, что коллегия сможет решить…
— Минуточку! А что я ему мог сказать в тот момент? В конце концов, я на себя брать такую ответственность не намерен, зачем мне это надо?
— …Из Парижа, совершенно изумительная вещь, но помилуйте, ей все-таки за шестьдесят, как ни вертись, и одеваться под двадцатилетнюю…
— Нет, я больше не могу, — сказал Андрей и поднялся из-за стола. — Ты не провожай меня, это и в самом деле неудобно. Сиди, сиди…
Перехватив взгляд хозяйки, он извиняющимся жестом показал на часы и, сделав неловкий общий поклон, вышел из столовой. В прихожую следом за ним выскочила Ника.
— Слушай, мне ужасно неловко, действительно как-то так получилось, мы даже не поговорили, ничего… Ты понимаешь, если бы они сегодня не улетали…
— Да я понимаю, — сказал он, натягивая плащ. — Чепуха это все, не расстраивайся. Я позвоню тебе. Чао!
На улице, дойдя до первого автомата, он позвонил домой, сказал, чтобы не беспокоились, он задержался у Ратмановых и хочет еще немного побродить.
— У Ратмановых? — удивленно спросила мама. — Разве Ника вернулась?
— Вернулась, — сказал он, и горло у него перехватило. — Еще в среду. Ну, пока…
Он быстро шел, держа руки в карманах расстегнутого плаща, не обращая внимания на усилившийся дождь. Люди, столпившиеся под козырьком входа в универмаг, озабоченно поглядывали на небо. Андрей вспомнил вдруг, как два месяца назад был здесь с Никой — она искала себе на лето какие-то сандалии, они побывали в нескольких магазинах в центре и наконец приехали сюда, в «Москву». Было очень жарко, они несколько раз ели мороженое, и Ника наконец призналась, что у нее, кажется, болит горло. «Зачем же ты столько ела», — сказал он ей, а она заявила, что он должен был вовремя ее остановить, на то он и мужчина… Каким счастливым, беспечальным вспоминался сейчас Андрею этот далекий день!
Дойдя до троллейбусной остановки, он перебежал на другую сторону и вскочил в отходящую «четверку». Дверь прищемила ему плащ, он выдернул полу из резиновых тисков и прижался лбом к холодному стеклу заднего окна. Троллейбус шел быстро, пол то проваливался, то упруго нажимал на подошвы, за окном убегала вдаль залитая дождем и уже сумеречная перспектива Ленинского проспекта; вдалеке, на крыше «Изотопов», зловещий атомный символ тускло рдел раскаленными аргоновыми эллипсами. «Хватит, — подумал Андрей, — для меня теперь Москва кончается у Калужской заставы. Ноги моей здесь больше не будет, на этом великолепном Юго-Западе. Хватит!»
Лайнер был весь в огнях, его длинное тело просвечивало изнутри круглыми дырочками иллюминаторов, яркий изумрудный фонарь горел на конце крыла, еще какие-то фары сияли внизу под брюхом, освещая полированный алюминий и черные, туго лоснящиеся шины счетверенных колес, и все это зеркально отражалось в залитом дождем бетоне; как пароход, входящий в ночной порт, лайнер разворачивался медленно и величественно, выруливая к взлётной полосе, и его грузное, неуклюжее движение странно не соответствовало ураганному вою и свисту турбин. Но эта неуклюжесть была обманчивой — он скользил быстрее и быстрее, сверкнул острым стреловидным килем, на минуту исчез, заслоненный низко сидящей тушей американского «боинга», потом появился снова — уже далеко на дорожке, превратившись в вертикальную серебряную черточку и два опущенных к земле крыла с зеленым и красным огоньками на концах. Дальше смотреть не было смысла, да и рука устала махать платком. Ника сунула его в карман и стала протискиваться от барьера.
На стоянке она не без труда разыскала машину. Внутри горел свет, Василий Семенович — пожилой таксист, уже несколько лет по совместительству подрабатывавший у Ратмановых, — читал «Неделю», развернув ее на руле. Ника полезла на заднее сиденье, шмыгая носом.
— Ну что, проводила? — спросил шофер, сворачивая газету и зевая.
— Ага, — сказала она тонким голосом. — Василий Семенович, если вам все равно, поедем по кольцевой, я не хочу через центр…
Сзади она села, чтобы поплакать без помех. Не то чтобы она так уж горевала по уехавшим гостям, — в конце концов, со Светкой они никогда не были очень близки, а Юрка — он славный, но не проливать же по нем слезы, и уж тем паче по Дону Артуро! Сейчас Ника плакала просто потому, что с отъездом недавних попутчиков для нее бесповоротно кончилось это волшебное лето — может быть, последнее в ее жизни, почем знать. Ей было очень жалко саму себя. Через две недели начинались занятия в школе, и впереди были осень и бесконечная зима, и было совершенно неизвестно, удастся ли ей в одни из каникул хотя бы на день съездить в Ленинград и сможет ли он побывать в Москве, как собирался…
«У меня не осталось ничего, кроме воспоминаний», — подумала Ника вычитанной где-то фразой. Почему, ну почему так быстро всегда кончается все хорошее? Лето промчалось, впереди ничего светлого. «Я умру без него, мне просто не пережить этой зимы», — подумала она убежденно и в отчаянии укусила себя за ладошку, чтобы не зареветь в голос…
От отчаяния к надежде, от пьянящей радости к убийственному сознанию, что для нее все кончилось, — временами Нику словно раскачивало на каких-то качелях, как бывает бреду. Это началось с отъездом из экспедиции, а эти последние четыре дня в Москве она и вовсе не знала ни минуты покоя. Ее пугал предстоящий разговор с матерью, почему-то пугал, хотя она привыкла быть с матерью откровенной; да и сейчас она боялась не откровенности, а чего-то совершенно другого. Скорее всего, она просто боялась услышать от матери вопрос: «И что же теперь?»
Беда была в том, что она и сама понятия не имела — что же теперь. Себе она этого вопроса никогда не задавала. Она знала лишь, что ее любят и что любит она сама; последнее стало для нее совершенно ясно в тот момент, когда они прощались и когда уже ничего нельзя было сказать вслух, потому что вокруг них были люди, и даже в глаза нельзя было посмотреть — ведь это было бы то же самое, что сказать обо всем вслух, при всех, громко и во всеуслышание; поэтому вблизи Ника не посмела взглянуть ему в глаза, хотя чувствовала, что он ждет этого, и понимала, что будет потом казнить себя за трусость, за малодушие в такой момент. Она просто подала руку, как и всем другим, пробормотала что-то непослушными губами и пошла к машине, но потом все-таки не выдержала и оглянулась, и посмотрела уже с безопасного расстояния, безмолвно прокричав все, что хотела и должна была сказать…
Утро было таким же, как и за месяц до этого, когда Кострецовы уезжали на Кавказ: такой же резкий рассветный холодок, и маслянистая, чуть колышущаяся поверхность спящего моря, и громадное солнце над горизонтом — только теперь оно было ниже, оно вставало теперь почти на час позже, чем тогда, в начале июля. А в остальном все было одинаково, и такой же дымок шел от кухонного навеса, где повариха растапливала плиту. Все было как прежде, и все должно было таким и остаться, и только ей уже не было здесь места. Тогда — в тот раз — она оставалась, и все было еще впереди; а теперь ей приходилось уезжать. Она шла к машине, спотыкаясь и оглядываясь на каждом шагу, словно надеясь, что в самый последний момент ее окликнут и предложат остаться…