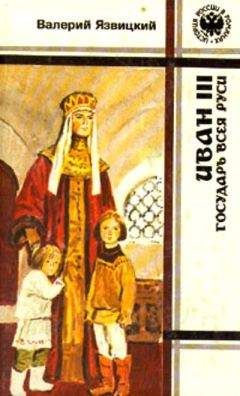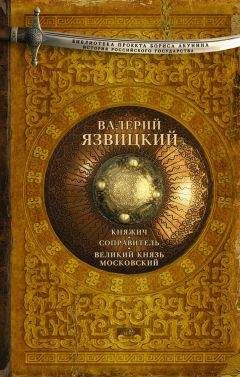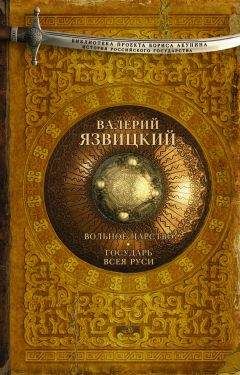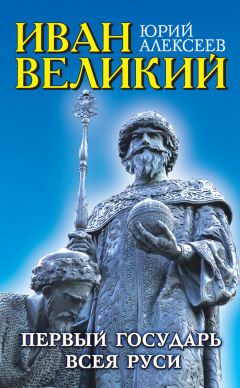Старец Агапий замолчал вдруг, словно увидел сам что-то страшное и непонятное. Дрожь пробежала по спине княжича Ивана, а Юрий, Илейка и Васюк замерли.
— Остров потом показался на озере, — заговорил вполголоса старец, — а на острове-то терем, а в терему девка слепая. Из терему днем она выходит, садится на косматого льва и по острову ездит, а от сего тишина кругом тихая, листочек — и тот не прошумит, ветерок — и тот дохнуть не смеет.
Люди же на все глядят, словно каменные, шевельнуться не могут от страху, — шепотом закончил отец Агапий и вдруг вскрикнул так, что испугались все. — Тут как загремит враз, загрохочет в небе, и стрела громовая, огненная, прямо в капище Велесово угодила! — продолжал старец громко и взволнованно. — Запылало, занялось все капище, а из него идол Велеса, самоцветами многими украшенный, сам, как живой, вышел, идет на восток вдоль берега озера, а вода пред ним, как в котле кипит, и рыба в нем варится, а волной ее вверх выкидывает, а по берегу-то все жилье человечье горит в пламени: и хоромы, и хлевы, и закуты, и все, что от дерева изделано. Все горит, скот ревом ревет, а люди всё еще шевельнуться не могут.
Смолк старец Агапий, словно засмотрелся на страшное зрелище, молчали испуганно княжичи и дядьки их.
— Жрец-то Велесов, Радуга, — тихо добавил старец, — пал тут пред идолом и молит его: «Нейди дальше!» Белес же исполнися гнева и опали жрецу все власы, и вдруг глава у Радуги стала песьей…
Смолк опять старец, только губы сухие его меж усов и бороды шевелятся, шепчут что-то неслышно, а сам он глядит куда-то в даль неведомую. Боязней оттого Ивану и непонятно все…
— Сильны беси-то были, — задумчиво сказал Васюк и перекрестился. — Слава богу, от святого креста да от ладана совсем ослабли, а от молитвы во прах расточаются. Все же силен еще бес-то: и горы качает, а людьми, что вениками, трясет.
— Над погаными беси токмо властвуют, — возразил Илейка, — христианам же токмо искушения и прелести деют, а взять крещеную душу не могут, потому у всякого после крещения свой андел-хранитель есть…
Княжичи осмелели, и вдруг вся нечистая сила стала нестрашной, и смеются опять вот глаза у старца Агапия под густыми бровями.
— Нетути, нетути боле, нетути боле силы бесовской, — говорит старец весело, — наш чудотворец Леонтий, первоапостол земли ростовской, разогнал всю нечисть поганую! Сила их токмо в лесах дремучих, да болотах бездонных, и речных омутах. А туточка, где кресты сияют над храмами да почиют мощи угодника божия, нетути, детушки, силы у бесов, нет у них смелости. Тишком ныне беси тут да шепотком все деют, а боле прелестью да хитростью христиан на грехи наводят.
Закрестился вдруг частым крестом старец Агапий, встал поспешно и побрел с посошком на монастырскую пасеку.
— Ох, запамятовал с вами, — ласково ворчал он на ходу, — запамятовал про пчелок божиих! Поглядеть их надоть.
Накануне святого Леонтия, с ночи еще, начались службы церковные в соборе Успенском и прочих храмах ростовских. Гул колокольный разливается окрест, и вдаль и вширь, затопляет сверху гудом своим площади, концы и улицы града, где потоки людские шумят и гудят, растекаясь по всем углам и закоулкам. У гостиного же двора лавки, словно ульи, стоят круг церкви святой Екатерины, толкотня и теснота такая, будто сотни роев тут роятся: мирские и духовные люди разного чина и звания, мужики и женки, старые и молодые, и калики перехожие — нищая братия.
Княжичи с дядьками своими и со слугами монастырскими, утреню отслушав в Успенском соборе и к мощам Леонтия приложившись, пошли прямо к торгу, где гостиный двор у соборной площади с лавками купцов, блинными, харчевнями и питейными. Но пока совершалось торжественное служение у мощей угодника, на площади было пристойно, тихо и благочинно и торга еще нигде не происходило, только нищие пели стихиры, прося подаяния.
Княжич Иван впервые видел такое многолюдное празднество. В Москве, из-за малых лет до объявления его народу, он из Кремля не выходил, и теперь здесь все весьма занимало его.
Вот показались лавки гостиного двора и навесы блинных, запахло печеным тестом и пригорелым маслом. Подле ветхого деревянного навеса одной блинной увидели княжичи слепого нищего с гуслями. Распустив седую бороду до пояса, сидел он без шапки на своем зипуне почти под самым прилавком, перебирая пальцами струны.
У прилавка толпился народ. Покупатели брали горячие блины и, свертывая их трубкой, макали в плошку с топленым маслом, целиком запихивали в рот, обтирая жирные пальцы о свои волосы.
— Блины масленые, блины горячие! — кричал бородатый мужик, принимая от рябой и грудастой женки блины стопку за стопкой на деревянном блюде.
Две же молодайки пекли их и, ставя одну за другой сковороды на горячие уголья, почти непрерывно сбрасывали готовые блины в огромную деревянную чашку, прикрывая их толстым холстом, чтоб не остыли.
— Эх, тетеха, — крикнул уже подгулявший рыжебородый мужик, обращаясь к рябой, — почем блины-то?
— Стопка с маслицем, басенок мой, — озорным голосом нараспев отвечала рябая женка, — стопка с маслицем да бражки ковшичек всего-то четверть денежки![77]
— Ишь, дороговизна какая! — проворчал Илейка, хотевший уж развязать свой кошель. — Сразу охоту отбило, поедим ужо в обители.
Но рыжебородый уже набивал себе рот блинами, запивая брагой.
Княжичи пошли было дальше, да слепец в это время зазвенел струнами гуслей и запел вдруг звучным голосом:
Вы, люди ученые,
Книгами начитаны,
Нас учить поставлены,
Извествуйте, что есть раз?
Порокотав немного струнами, он, кратко, нараспев ответил себе:
Княжичи невольно остановились и стали слушать, а слепец продолжал повторять вопрос за вопросом до двенадцати и, давая ответ, повторял все прежние ответы вместе с новым. Дойдя до вопроса: «Что есть двенадцать?» — он ответил:
Един бог без греха,
Два в Исусе естества,
В триех лицах един бог,
Четыре авянгелья,
Пять язвий у Христа,
Шостокрылый серафим,
Семь собор святых отец,[78]
Восемь кончий у хреста,[79]
Девять чинов андельских,
Такожде архандельских,
Десять словес божиих,
Одиннадесятый час,
Двенадцать апостолов.
Проведя рукой по всем струнам, положил слепец гусли себе на колени и, ощупав рукой вокруг себя, нашел глубокую деревянную миску и протянул ее вперед. Горячие жирные блины, капая маслом, повалились с разных сторон, наполнив миску доверху.
— Спаси Христос! — бормотал слепой. — Царство небесное вашим родителям, а вам дай бог здравия…
Но в этот миг все кругом зашумело вдруг, загоготало, загикало, и толпа, кружась и толкаясь, понеслась к соборной площади, ближе к подворью архиепископа. Кончилась служба у гроба Леонтия, и митрополит нареченный Иона, и владыка ростовский Ефим, и все архимандриты, игумны, иереи ростовские и приезжие, с иноками и служками, и почетные гости пошли в хоромы архиепископские на почестен пир и трапезу. Из погребов же епископских и монастырских служки владычные и монастырские сотни бочек пива пьяного вывезли на телегах пароконных, а со двора владыки по земле покатили бочищи великие. Вышибали тут из бочек затычки дубовые, подставляли все ковши и ведра, миски и чашки под струи хмельные и пенные, и пир пошел по всей площади.
— Не добро тут отрокам, — сказал Васюк, обращаясь к монастырским слугам, — пьянство и глум почнутся, сквернословие всяко, дерзости.
— Пойдем, — сказали служки монастырские, — на второй владычен двор, что к гостиному ближе. Там токмо гости приезжие да свои сироты домовые.
Кормленье им там в сей день, гостьба. Там и нам угощение будет…
На владычном дворе столы были простые тесовые, во много рядов расставлены, а круг них теснота на скамьях. Людьми скатерти белые, как мухами, со всех четырех сторон облеплены. Шум, гам, разговоры, смех, крики, а слуги владычные с ног сбились, подавая шти, кашу, пироги с капустой, пиво и квас. Почетным же гостям в правом углу двора и блины и мед стоялый в сулеях на столы ставили.
По двору шатались любопытные или очереди ждущие, да нищие в разных местах то «Лазаря», то стихиры пели. Жаркий день, душный, а солнце прямо над головой стоит, печет темя и плечи, и в поте лица все вкушают угощенье.
Слышно иногда сквозь шум и говор, как под окнами владычных покоев воркуют голуби, а потом, стаями снимаясь с навесов и крыш, носятся над подворьем, громко хлопая крыльями, сверкающими на солнце. Неизвестно откуда камнем срываются воробьи, падают на землю, у самых столов дерзко подхватывают крошки и с чиликаньем исчезают куда-то. Дворовые собаки, поджав хвосты, шныряют, как тени, под столами и скамейками, подбирают объедки и взвизгивают иногда под хохот охмелевших гостей от пинка сапогом в бок.