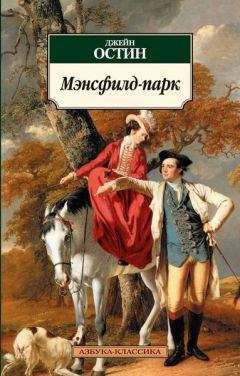Мы ездили на концерты и в театры, побывали в Ливерпульском музее и Британской галерее, не забыли и о модных лавках на Бонд-стрит, где я не осмелилась осведомиться о ценах и отказалась позволить мистеру Эшфорду что-либо мне купить.
На некоторых экскурсиях нас сопровождала Кассандра (которая подумывала вернуться в Чотон, но была убеждена восторженной Элизой остаться на все лето), на других — еще и Элиза с Генри. Но поскольку в наши годы компаньонка не так уж и необходима, как правило, мы предпочитали проводить время в обществе друг друга. Одним из наших любимых занятий стало бродить по Кенсингтон-гарденз, по роскошно и буйно цветущим аллеям. Там мы нашли свою особую скамейку с видом на прелестный пруд, к которой возвращались снова и снова, просто чтобы сидеть и говорить, поверяя сокровенное и греясь в радости присутствия друг друга.
Как-то днем в середине сентября, когда мы болтали на своей любимой скамейке в саду, мистер Эшфорд объявил, что закончил читать мою книгу.
— Неужели? — ответила я, и сердце мое сжалось от внезапной тревоги.
Попытка Генри отыскать издателя, несмотря на все его связи, не увенчалась успехом. По настоянию мистера Эшфорда я дала ему рукопись. Я с трепетом ждала его реакции, поскольку опасалась, что он не сможет не узнать некоторые ситуации в романе, которые, очевидно, были вызваны к жизни нашими встречами.
— Он остроумно и прелестно написан и в точности таков, как я и надеялся, — сказал он. — Вам следует изрядно гордиться.
— Я рада, что вам понравилось, — с облегчением ответила я.
«Возможно, — подумала я, — он так и не заметил своего участия в истории».
— В настоящее время рукопись прекрасно подпирает кухонную дверь, чтоб не захлопнулась.
Он засмеялся.
— Она должна, обязана быть опубликована.
— Боюсь, мое знакомство с издательским миром ограничивается весьма скромным опытом.
— Возможно, я сумею вам помочь. У меня есть кое-какие связи. Если вы позволите, я с радостью предприму некоторые усилия на благо вашего творения.
— Буду вам чрезвычайно обязана. Но вы должны пообещать мне не винить себя, если из этого ничего не выйдет. По правде говоря, я убедилась, что моя скромная книга стала бы плохой сделкой для издателя. Не представляю, чтобы ее удалось продать в количествах, достаточных для возмещения затрат.
— Я не согласен. Возможно, она несовершенна, но я уверен, это произведение искусства достаточно хорошо для того, чтобы извлечь из его публикации большую прибыль.
— Что? Несовершенна? — вскричала я в поддельном негодовании. — В каком же отношении, скажите на милость, моя книга — это произведение искусства, которое никто никогда не издаст, — несовершенна?
— Точно воспроизвести не смогу, — ответил он, — но дело в какой-то мелочи в самом конце. Вроде бы мне показалось, что там чего-то недостает.
— Понимаю. Если вы когда-нибудь вспомните свои мысли на этот счет, надеюсь, вы поделитесь ими со мной?
— Разумеется, — улыбнулся он и добавил, искоса бросив на меня взгляд: — Должен признаться, в книге было кое-что еще… это никоим образом не признак несовершенства, но некоторые стороны романа показались мне, как бы это сказать… знакомыми.
Жаркий румянец затопил мои щеки.
— Как, неужели?
— Например: ваша Элинор ощутила глубокую привязанность к некоему Эдварду, довольно скучному, но симпатичному типу, лишь чтобы обнаружить — после того как он покинул ее, ни дав никаких обязательств, — что он давно помолвлен с другой. А позже она одновременно встречает обоих, Эдварда и Люси.
Смущенный блеск глаз и изгиб бровей мистера Эшфорда выдавали его совершенное понимание собственной роли в появлении данных сцен.
— Очень драматичные ситуации, — заметила я, мысленно проклиная себя за склонность краснеть.
— И несомненно, описанные вами с глубоким знанием дела. Должен признать, когда я читал вашу книгу, временами у меня волосы дыбом вставали. То мгновение в гостиной приходского домика мистера Мортона, когда я вошел и увидел вас и Изабеллу, навеки выжжено в моей памяти как одно из самых унизительных в жизни.
— В моей тоже, — ответила я, мертвея при мысли о боли, которую должно было вызывать чтение подобных сцен. — Теперь вы понимаете, почему я не хотела давать вам книгу.
— Я рад, что прочел ее.
Он повернулся ко мне.
— Скажите, Джейн, я принимаю все слишком близко к сердцу или ваша злость на меня вплетена и в изображение Уиллоби?
Его лицо было таким серьезным и таким несчастным, что у меня сжалось сердце, и все же но какой-то необъяснимой причине я не удержалась от смеха.
— Возможно, — признала я. — Не правда ли, Уиллоби просто ужасен?
— Он — образец себялюбивого грубияна. На другом конце спектра, разумеется, располагаются полковник Брэндон и Эдвард, который, несмотря на все проступки, оправдан как святой.
— Эдвард не святой! — пылко возразила я, и мой резкий голос заставил стайку птиц внезапно вспорхнуть с соседнего дерева.
— Несомненно святой. Он так высоко чтит долг и моральные принципы, что до самого печального конца остается предан вульгарной алчной невесте, хотя не единожды имел повод оставить ее.
— Разве вы вели себя не так же? — тихо осведомилась я.
Он на мгновение замолчал, сосредоточив внимание на утках, плескавшихся в пруду.
— Видимо, да, — наконец произнес он, и намек на горечь прозвучал в его голосе. — Но в моем случае долгом было чтить пожелания отца, джентльмена, который посвятил всю жизнь благополучию семьи, а значит, заслуживает моего уважения. Но если б я мог…
Он со вздохом умолк и взглянул на меня, натянуто улыбаясь.
— Весьма отрезвляющий опыт — прочесть о своих проступках и их последствиях на бумаге, в особенности когда они изложены в такой прочувствованной манере.
Он взял мою руку и долго не отпускал ее, с нежностью глядя на меня.
— Я очень сожалею, Джейн, о всей той боли, что причинил вам в прошлом. Обещаю, что заглажу вину.
— Я заставлю вас исполнить обещание, мистер Эшфорд, — поддразнила я.
— Надеюсь, — ответил он. — Но вам не кажется, что настала пора называть меня Фредериком?
На следующий день, решив сбежать от городского шума, мистер Эшфорд (несмотря на его возражения против подобной официальности, он был и оставался бы моим дражайшим мистером Эшфордом до самого официального обручения) пригласил меня прокатиться в деревню. Мы провели поистине чудесный день за пикником на высоком холме, в тени вязовой рощи, откуда открывался вид на великолепную долину. На обратном пути, избрав другую дорогу, мы внезапно наткнулись на деревенскую ярмарку и выразили обоюдное желание осмотреть ее.
Оставив шарабан и лошадей с подручным конюха, мы отправились на разведку. Ярмарка оказалась большой, многоцветной и шумной. Акр за акром покрывали палатки, лавки, бродячие музыканты, актеры и толпы оживленных посетителей — в равной мере как сельских джентльменов и леди, так и фермеров, — которые явились торговать, флиртовать, ужинать и развлекаться.
Пока мы шли по ярмарке, то увидели нескольких покупавших хлеб и сыр краснолицых женщин в выцветших платьях и двух джентльменов, споривших о цене на гнедую кобылу, однако большая часть дел, по-видимому, была завершена. Толпы в основном собирались вокруг петушиных боев, борцовских состязаний и канатоходцев.
Мы несколько мгновений стояли и смотрели на фокусника, больше забавляясь громкими охами и ахами зрителей, нежели собственно представлением, когда внимание мистера Эшфорда внезапно привлекло совсем другое.
— Смотрите! — воскликнул он, указывая на цыганский шатер, табличка на котором гласила: «Гадание по руке».
— Что? Вы имеете в виду цыган? Только не говорите, что желаете узнать свою судьбу.
— Нет, я желаю узнать вашу, — улыбнулся он, взял меня под руку и потащил в направлении шатра.
— Ни за что! — крикнула я, смеясь. — Я и гроша ломаного не потрачу на подобную чепуху!
— Это будет мой грош, — ответил он. — Идемте, Джейн. Вы ведь хотите выяснить, что станет с вашим любимым романом?
— Ничего с ним не станет, — настаивала я, — и мне не нужна старуха цыганка, чтобы разбить мои надежды или ложно упрочить их.
Но мистер Эшфорд решил, что я должна пойти, и, посчитав, что вреда в том не будет, я обуздала веселье и позволила отвести меня в цыганский шатер.
Мы откинули занавеску и вступили в полутемное помещение, освещенное несколькими свечами. Я немедленно обнаружила, к своему удивлению, что цыганка — не старая черная сморщенная старуха, как я ожидала увидеть. Конечно, у нее была смуглая кожа и темные глаза, но она оказалась не старше двадцати пяти и невероятно красива. Она сидела за маленьким круглым столиком, покрытым потрепанной голубой тканью. Яркие шали окутывали ее плечи, а длинные черные кудри свободно стекали по спине, забранные на лбу фиолетовым шарфом.