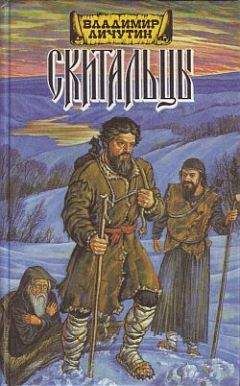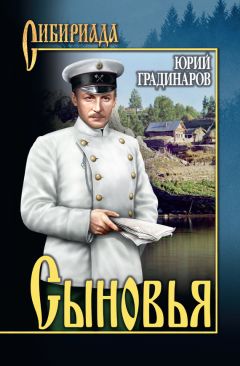Староста сидел за столом, добрый отечный человек с больным горлом, оттого с постоянным платком на шее; подле писарь чистил гусиное перо, смотрел на свет, тер его о коричневую понитчину, будто в нем и заключалась суть дела. Лицо писаря стало чужое и незнакомое деревне, словно и не бегал по Дорогой Горе Владимерко Попов еще сопливым, так и звали тогда – сопливый губан; потом как-то пристал к священнику мезенскому и выучился, говорят, большой грамоте. А косоглазый, ведь от роду косоглазый, смотри ты, и глаза не помешали. Но ловкий мужик, меж пальцев у него не протечет, из рук не выпадет, и сейчас будто в потолок смотрит, а косым глазом далеко видит, ой как далеко, и порой щурится, словно бы подмигивает кому. Круто знает свое дело Владимерко Попов. И когда староста заговорил тихим могильным голосом, все мужики на писаря глянули, словно он говорил речь.
– Миряне, срок-то на владение нашею запасной землей Иванкой Качеговым сейгод кончился. Арендные деньги с него получены сполна... Где ты, Иванушко, поди-ко сюды, пусть народ честной на тебя поглядит. – С лавки поднялся волосатый низкорослый мужик, встал у стола, и все мужики уперлись на него глазами, словно впервой видели его. – Он просит снова заарендовать землю – так, Иванушко?.. – и дает прежнюю цену восемь рублей за десятину, – скажу сразу, цена достойная. Отдать ли ему по-старому, иль кто хочет торговать, опричь его это дело? Нужно решить нынче нашим сходом, для того и сошлись, миряне. Решайте, братцы...
Мужики загудели тихо, но назойливо, будто гнус перед дождем, хвалили пашню, поднимали Иванку Качегова: мол, добрый мужик, не уронил землю, да и сам на ней поднялся, уж седьмой год арендует, а мир на него зла не держит, и вот, опять же, ведро водки ставит...
– Дак отдать, миряне? – взывал староста хрипло и каждый раз морщился и закрывал глаза, словно бы ему тяжело глядеть на мир: он сам с нетерпением ожидал нового схода, когда освободят от должности и можно будет отдохнуть от навязчивой докуки. В прошлом году насели навалом, давай да давай, ты человек праведный, да и урону для дома большого не будет, два сына дом хорошо ведут, поглавенствуй над Дорогой Горой. Навалились – и откупиться не мог, а нынче еще болезнь проклятая и навязалась, знать, простыл на озерном лове.
– Охочих никого нету, братцы?..
– Пусть владеет, чего там, – неровно загалдел мир, вглядываясь в большой угол, где сидели каяфы[42] , которые еще не уронили голос. Тут поднялся Петра Афанасьич, оглядел сход, и все притихли: один вспомнил, что сев на носу и придется опять же идти к Чикину на поклон, чтобы зерном помог; другой подумал, что хлеба призанял еще зимой, а отдавать будет нечем, хорошо бы Петра Афанасьич еще погодил с должком, третий был у Чикина в захребетниках, ходил за лошадями; кто-то покрутчиком плавал нынче на его хлебах, а плату еще не получил... Тут пришло на ум, как Петра однажды покупал у Мины Чуркина лошадь: хозяин просил семь рублей, сходная цена, а Петра четыре с полтиной предложил. До пятерки доторговались, на полтиннике споткнулись, больше не захотел уступать Мина, и так задешево отдавал, да вот деньги были позарез нужны: подати платить нечем. Встал полтинник между мужиками, ушел Петра, а на прощанье еще и посулил: «Ну погоди...»
Мина Чуркин свел лошадь на базар и продал ее там за двенадцать рублей, но эти деньги уже не принесли ему счастья. До самой смерти пакостил Петра: то из хлебных списков вычеркнул – и мир промолчал; потом предложил выбрать церковным старостой, а Мина заболел – и ему пришлось нанятому за себя платить по рублю в месяц. И тут мир молчал, словно забыл, что лет тринадцать назад грозились выгнать Петру Чикина из деревни и звали прилюдно не иначе как Петра Глот. Забывчива человечья память; словно никогда не ел Петра Чикин от жадности живой кукушки, этим на века опозорив родную деревню; будто всегда он был в высоких кожаных сапогах и в синем кафтане из базарного сукна с поясом в золотых кистях. Нынче сидели мужики, опустив головы, мяли в ладонях полы кафтанов, царапали слоистыми желтыми ногтями черные борозды на ладонях, но уши сторожко шевелились: что-то скажет каяф. И только середина лавки стала мутить воду:
– Хватит Иванке... Такую-то землю воля пахать. Не земля, пуховинка, по сту зерен в колосе-то дает... С земли и пошел. Другим тоже нать... каждый охоч до такой землицы. Ее хоть заместо меда на краюху мажи, такая землица сладкая да скусная.
Кричали горланы и помнили, что Петра Афанасьич еще до схода обещал два ведра водки, а он-то свое слово сдержит. Чикин прошел к столу, остановился подле Качегова, и стал тот совсем невиден.
– Ты уж попользовался, Иван Сидорович, – сказал Чикин. – По-Божески нать, а? Восемь с четвертаком за десятину даю...
Все охнули – такой цены за землю еще никто не давал. Но тут поднялся Калина Богошков, оправил на груди шелковую бороду. Лицо черное от вешнего солнца и морского ветра, с усохшими щеками: выжало море из мужика всю воду, оставило только жилы. Пошел зять на тестя с открытой грудью, говорил слова ясные, но всем показались они дерзкими, и мир потупил голову. Только косоглазый писарь глядел в потолок, и ехидная улыбка дрожала на тонких губах.
– Куда тебе с землей-то, Петра Афанасьич? – спросил Калина. – Грех мужика забижать, кусок ведь изо рта рвешь.
– Пока мир решает, зятелко, а не ты, – ласково откликнулся Петра, но в глазах его народился холод.
Поняли люди, что не простит теперь Петра Афанасьич своего зятя до самой смерти.
– Ты ханзинскими землями кой год владешь?
– А бери, Калинушка, коли любы... Хвощ да осоту за двадцать верст доставать кому охота. Ты бери...
– Мне-то не нать, а мужика не забижай.
– Он мужик, а я, значит, князь? Будто я не ломил, как медведь, иль своим горбом не наживал. А может, ты копейку ко мне в сундук ложил? Пошто молчишь-то? Иль я против мира што несу, а? Братцы миряне, неуж я не как прадеды наши, так остановите меня. Может, я что худого содеял, дак подскажите?
– По воле мира, Петра Афанасьич, – закричали горланы.
– Видите, Калина Иванович, зятелко дорогой. Стройте мир по образцу своему, по подобию и не предавайтесь зависти. Осподи... Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его, царя Соломона и всю премудрость его. Не нами сказано: шутки шути, но людьми не мути.
– Что скажет мир? – снова спросил староста, виновато оглядывая Калину. Потом добавил тихонько: – Тут ведь как мир скажет...
– Тоже восемь с четвертью даю, – крикнул Иванко Качегов, словно в студеную воду прыгнул с закрытыми глазами. – А больше не могу, как хошь.
– И я не могу, я деньги не печатаю, – сказал горестно Петра Афанасьич, и глаза его накрылись крупными коричневыми веками. Горестным было все его лицо, словно кто неправедно обидел мужика и покинул его в печали. Писарь косо глянул в толпу и простучал пальцами по столешне.
– За кого, миряне? Больше никто надбавить не может...
– За кого Бог, за того и добрые люди. Ну что ж, Иванко, отступайся, – веско сказал большой угол. – Напользовался, чего там. Да и ты, Петра Афанасьич, уважь мир, надбавь четвертачок.
Потом высыпали на волю, вздыхали облегченно, что все благополучно разрешилось: что и говорить, добрый мужик Иванко Качегов, но разве мало на деревне добрых печищан[43] , готовых утешить словом и сердцем, но Петра Афанасьич один, благодетель, он хоть и шкуру с живого снимает, а благодетель, и на него даже не грех помолиться. Возле изгороди десятский вился, в руках четвертная бутыль, кричал нетерпеливо, почти зло, мужикам: «Эй-эй, сюды...» – и показывал на сухой угорышек. Легли печищане близ изгороди на просохшие холмушки, как бы спрятались от баб своих, сразу по кругу пошел оловянный стакашек, опрокидывали водку залпом, закусывали рукавом кафтана, и глаза наливались живым неразумным блеском. Тут вышел из мирской избы Петра Афанасьич, немного растерянно оглянулся, словно решая, куда пойти, а ему уже махали от изгороди руками, зазывали к себе: «Благодетель вы наш, Петра Афанасьич, не побрезгуйте нашей кумпанией. Мы за вас горой...» Кто-то уже хлопал Петру по плечу, лез целоваться, кричал в ухо: «Мы-то ведь все панимам. Добро-то и скот понимат, так ли, Петра Афанасьич, а мы ведь человеки», – и неожиданно плакал горестно, искал взглядом стакашек, чтобы добавить внутрь зелья и осушить слезы.
Души в ад не отдать – так и богатым никогда не бывать
Поморская поговорка
Не сдержали уговора корабельные мастера, не угодили суденком на вешнюю воду: Егорко Немушко руку потянул в плече, да столь сильно, что с неделю пришлось на печи лежать и оттирать коровьим маслом, но как поднялся на ноги, то уж дня-ночи мужики не знали. Обшили бортовины для крепости пареным вересковым корнем, проконопатили (от деревянной колотушки у Доньки пальцы скрючило), потом просмолили; настелили телдоса, чтобы упруги закрыть и вода под ногами не хлюпала. Поверх палубой накрыли, протянули стоячий да бегучий такелаж из чесаной пеньки и полотняными парусами одели мачты. Большая родилась шкуна, на четыре тысячи пуд, на такой не страшно будет и на Матку бежать, и на Грумант. Но как срядились да оглянулись вокруг, уже Петровщина приспела, самый конец июня.