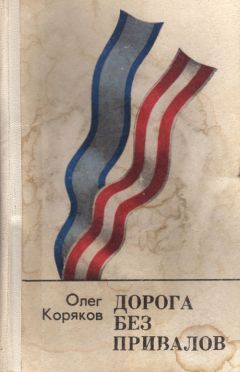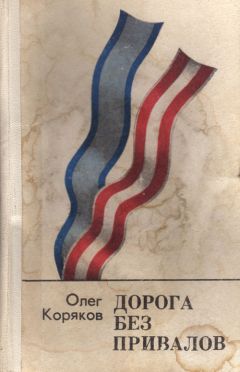Красота была вокруг него в последние мгновения жизни. Вековые ели со снежными перинами на лапах искрились всеми оттенками радуги в лучах пурпурного предгрозового солнца, на которое уже заходили тучи. Равнодушная вековечная красота природы, которой дела нет до человека с его страданиями и радостями, войнами, революциями, победами и поражениями, хлопотами, довольством, слезами, с его похвальбой и унижениями, с трудами и лентяйством, талантами и бездарностью. С его рождением и смертью.
Мальчонка, имени которого и фамилии Еремей Николаевич не знал, дернулся в судороге. Еремей Николаевич крепче прижал к себе мальца. И стал, ритмично покачиваясь, наговаривать стишок, который более всего любил его сынок Митяй, всеми принимавшийся за внука.
Аты-баты — шли солдаты, ать, два!
Аты-баты — на базар, ать, два!
Аты баты — что купили? Ать, два!
Аты-баты — самовар! Ать, два!
Аты-баты — сколько дали? Ать, два!
Аты-баты — три рубля! Ать, два!
Митяй, еще полуторагодовалый, обожал кричать в конце каждой строчки «Ва!» — вместо «Два!». С выпученными глазами орал, словно от его правильного крика зависит сохранение привычного мира.
Ульяна перестала причитать, повернула голову, прислушиваясь, беззвучно шевеля губами, повторяя за Еремеем Николаевичем всем известные строки:
Шишли-вышли, вон пошли, ать, два, три.
На боярский двор зашли, ать, два, три.
Там бояре шапки шьют, ать, два, три.
На окошки их кладут, ать, два, три.
Ать, два…
«Тли!» — вопил Митяй. Или мальчонка на его руках, умерший несколько минут назад? С лицом тихого ангела, перенесшего недетские страдания, принявший их смиренно и отдавший душу Богу…
— Целься — пли! Ать, два! — договорил непослушными губами Еремей Николаевич.
Солнце уже скрыли тучи, подул ветер, швыряя первые снежинки. Скоро они без просветов заполнят землю до неба, равнодушно и красиво играя и кружась.
Метель бушевала три дня. А когда на четвертый день утихла, сквозь облака пробилось солнце. От Еремея Николаевича, Ульяны и детей остались только едва различимые сугробы.
Часть третья
1930–1937 годы
Александр Павлович подозревал, что Марфа отдалась ему из благодарности. Он ведь помог Марфиной золовке бежать. Мысль о том, что женщина расплачивается с ним, была до зубовного скрежета постыдной.
Однажды вечером, когда Елена и дочь были в театре, он вернулся домой крайне усталым — той нервной, многодневной усталостью, которую снять с мужика может только женщина. Сильная, пышущая здоровьем — такая, как Марфа. Воробьиные прелести супруги его давно не возбуждали.
Александр Павлович овладел Марфой. Именно что овладел — без слов завалил на диван и с грубым исступлением, быстро выплеснул свою накопившуюся усталость, снял нервное напряжение. Марфа не сопротивлялась.
Когда все кончилось, она встала, поправила юбки и спросила:
— Чай пить будете?
— Прости!
Пожала плечами, будто он сморозил глупость:
— Пироги с картохой и грибами подавать или с капустой кислой?
— С картохой, — просипел Александр Павлович.
Он ненавидел себя, дал слово, что подобное больше не повторится. Но повторилось уже через несколько дней, и потом два месяца регулярно повторялось.
Эти два месяца — пожалуй, лучшее время в его жизни. День был наполнен ожиданием свидания с Марфой — не мыслями и мечтами, оформленными словами, а сладким чувством предвкушения, которое нисколько не мешало работе. Напротив, утраивало силы.
Камышин спускался в полуподвал, где обитали Медведевы, играл с Петром в шахматы. Ни разу не выиграл у этого дебила, через слово гыгыкающего. Ближе к полуночи Петр уходил на смену в кочегарку. Митяй уже спал. Александр Павлович ложился в постель с Марфой. Ему не удалось растопить ее, расшевелить ласками. Марфа была покорна, но любые проявления нежности были ей явно противны. Иногда признавалась вслух: «Да что вы цалуете везде? Давайте уж по-человечески».
После финального аккорда, когда Камышину хотелось просто полежать рядом с ней, восстановив дыхание, играть с ее волосами, перебирать пальцы на руке и каждый целовать, бормотать милые глупости, Марфа тяготилась его присутствием, напоминала, что ей до свету вставать и печь разжигать.
— А мы еще разочек? — униженно просил Камышин.
— Только без глупостев, — позволяла Марфа.
Камышина угораздило влюбиться в простую деревенскую бабу. И баба эта, вместо того чтобы от счастья плавиться, гордиться, заноситься, сама одаривала его с барского плеча. Хотя кто здесь барин, без очков видно. Она допускала его в свое тело, в одно заветное женское место принимала его мужскую плоть, при этом не выказывала никакого чувственного наслаждения. В отличие от Камышина, который с ума сходил от сибирской амазонки. Она не допускала его в свое сердце, и когда он с юношеской беспомощностью спрашивал: «Но ты меня любишь? Я тебе нравлюсь?» — Марфа уходила от ответа: «Эт все барские слова да утехи, а я женшшина необразованная».
«Необразованная» Марфа однажды сразила Камышиных наповал.
Александр Павлович и Елена Григорьевна уже давно и часто ссорились в ее присутствии, не находя нужным скрывать свои истинные отношения.
Александр Павлович за завтраком уговаривал жену пойти с ним на именины какого-то начальника, где соберется партийная верхушка.
Елена Григорьевна сморщила носик:
— Они так скучны, пресны, неинтересны, пошлы!
— Зато все при власти, — отвечал Александр Павлович. — Ты ведь любишь тех, кто успешен. Ты не терпишь неудачников, какими бы причинами ни были вызваны их поражения.
— Да, не терплю! Неудачники унылы, занудливы и постоянно твердят о несправедливостях, учиненных по отношению к ним. И потом они мне кажутся… — Елена Григорьевна кокетливо повертела в воздухе пальчиками, подыскивая слово. — Они мне кажутся… заразными!
— Прям ни дать ни взять Бетси Тверская, — вдруг обронила Марфа, ставившая грязную посуду на поднос.
Камышины уставились на прислугу в немой оторопи.
— Вы читали «Анну Каренину»? — спросил Александр Павлович.
Марфа пожала плечами. Он уже знал этот жест — мол, чего о глупостях спрашивать, чего про безделицы толковать?
— Однажды, — Елена Григорьевна обратилась к мужу, — Марфа поправила поэта Безпамятного, когда он неверно процитировал Святое Писание.
— Энтот поэт хотел ваше пальто, Александр Павлович, умыкнуть, — не утерпела Марфа. — И кашне! В пальто уж руки совал, а кашне вокруг выи своей бесстыжей лихо намотал. Едва содрала с него. С тех пор прячу по середам вашу одёжу верхнюю на кухне. У нас в селе таких поэтов розгами принародно воспитывали. — Подхватив поднос, Марфа вышла из гостиной.
— Мы столько лет говорили о народе, о его самобытности, благе, сломали тысячи копий, высмолили вагоны папирос, — задумчиво произнес Александр Павлович, — но, по сути, свой народ не знали. А когда этот народ революционной волной вынесло на один с нами горизонт, стали зажимать носы — воняет.
— Народ в лице Марфы, в единичном варианте, я принять готова. Алекс! Я уже несколько минут держу папиросу, а ты не подносишь мне огонь.
— Извини! — Он чиркнул спичкой. — Мне кажется, что Марфа тебя любит больше, чем меня.
Вырвавшаяся фраза была глупой, детски ревнивой и выдавала Александра Павловича с головой, но Елену Григорьевну нисколько не насторожила.
— Конечно, Марфа меня обожает. А ты знаешь человека, который питал бы ко мне иные чувства? — жеманно скривилась она.
«Я! — хотелось воскликнуть Камышину. — Я давно тебя не обожаю!»
Он натянуто улыбнулся, как бы признавая ее сокрушительное очарование.
— Как-то я слишком много выпила, — продолжала Елена Григорьевна. — Ах, вино здесь преотвратительное!
— И нанюхалась порошка, которым тебя снабжает Сорока?
— Чуть-чуть. Не перебивай, пожалуйста! За чем-то отправилась на кухню. В голове сумбур. Там Марфа, женщина-гренадер, раскраснелась у плиты. Я к ней близко-близко подошла, погладила по плечам и по груди…
Камышин не сумел совладать с лицом, его перекорежило.
— О, не злись! — проворковала жена. — Нарушая все правила интриги, я тебе заранее скажу, что кончилось все невинно. Так слушай! «Я ведь вам нравлюсь?» — спрашиваю Марфу. Она — «дык, дык» свои, ты понимаешь. «А знаете, — говорю, — что случается связь не только между мужчиной и женщиной, но и между двумя женщинами?»
Камышину хотелось придушить жену, стиснуть пальцами ее хрупкую шейку и услышать хруст позвонков.