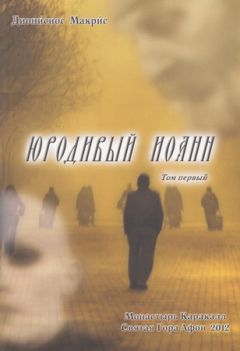Я прошла чуть дальше и снова позвала: «Мама!» И снова никто не ответил. Сделав еще несколько шагов, я наступила на старую женщину, потому что приняла ее за гору тряпья. Старуха взвизгнула и села, прикрыв руками лицо, словно защищалась от ударов. Я крутила головой, высматривая мать, а руками обхватила себя за плечи, ибо меня била дрожь от холода и страха. Все смотрели на меня, но никто ничего не говорил, и это безмолвие было еще страшнее вони. Я отступила назад и встала рядом с Томом — и тогда услышала, как кто-то зовет меня по имени. Голос был слабый, будто доносился из-под одеяла или с большого расстояния, и я снова позвала: «Мама!» Снова послышался голос, со стороны коридора, и я бросилась обратно к решетке. Когда я перешагивала через тела женщин, что сидели, прислонясь к невысокой каменной стене, в которую были встроены прутья решетки, раздались возмущенные взвизгивания и крики протеста, но я не обращала на них внимания. Я готова была пройти по сотне тел, лишь бы найти ту, чей голос меня звал. Я припала к прутьям, прижалась к ним лицом и закричала: «Мама, где ты?»
— Я здесь, Сара, здесь.
Я увидела, как сквозь прутья решетки дальней камеры напротив просунулась рука. Рука манила меня, повернув кверху ладонь, словно хотела поймать капли дождя или звук моего голоса. Запястье было сильное и гибкое, как шея кобылицы, а на нем — кандалы.
— Мама, мама, мама, мама…
Должно быть, я повторила это слово сотню раз, а она отвечала мне. И так мы переговаривались, пока шериф не крикнул с верхней ступени лестницы:
— Ну-ка потише там, а то всыплю как следует!
Мы перешли на шепот, и тут из камеры напротив я услышала голос Ричарда. Они с Эндрю были в ближайшей маленькой камере для мужчин. И мы втроем стали шепотом рассказывать друг другу мелкие подробности нашей жизни. Я сказала, что Том со мной и пока мы в безопасности. Ричард сообщил о ранах на запястьях Эндрю, полученных во время пыток десять дней тому назад. Но он не сказал, что от нагноения у Эндрю началась лихорадка. Мы не говорили о судебном процессе, приговорах и о том, что нас ждет, но, когда мать спросила о Ханне, я не знала, что ответить. Я ни разу не вспомнила о сестре после того, как переступила порог салемского молитвенного дома. Вскоре женщины захотели поудобнее сесть на свои места у стены, и мне пришлось отступить к центру камеры, где в тихом отчаянии меня ждал Том.
К нам медленно пробралась какая-то женщина. Платье на ней было грязное и рваное, в пятнах ржавчины от цепей, которые висели поверх фартука.
— Детки, садитесь со мной, — сказала она ласково. — Вы попали в хорошую камеру. А не в ту, плохую. Идите ко мне, найдите местечко и отдохните немного.
У нее было доброе лицо и нежные руки. Я это почувствовала, когда она взяла мою скованную страхом ладонь. Я смотрела на женщин вокруг себя, немытых и голодных, все были в кандалах, даже самые молодые, — и гадала, что значит «хорошая» камера. Я не знала, что большинство женщин в дальней камере приговорены к смерти и что моя мать заточена с другими пятнадцатью мученицами в камере, рассчитанной на шесть или семь человек.
Мы просидели с доброй женщиной несколько часов, пока не пришел кузнец и не заковал нас в кандалы, за которые отцу еще придется заплатить шерифу. Кузнец был грубый и с нами не церемонился, но дело свое знал и не промахнулся, вбивая последний гвоздь. Нередко от неточного удара страдала рука или лодыжка. Некоторые женщины, которые сидели в тюрьме давно, были прикованы к кольцу в полу или в стене, но, так как мы были маленькими, нас приковывать не стали. Вскоре пришло время для посетителей, и шериф по очереди пропускал в коридор тех, кто принес продукты или одежду своим родным. Передачи просовывали через прутья решетки. Длительность посещения определялась количеством монет, которые совали в руку тюремщика, или меновым товаром. У большинства посетителей монет не было, поэтому им выделялось всего несколько минут, чтобы утешить родных, помолиться и попрощаться.
Двери в камеры открывались нечасто. Исключение делалось для священника или врачей, приходивших к заключенным из милосердия. Или чтобы вынести тело умершего ночью заключенного. Только в конце дня мы с Томом увидели в коридоре согнутую фигуру нашего отца, подходящего к решетке камеры. Потолок был не выше шести футов, ибо тюрьма на три фута уходила в каменистую землю, образовывая полуподвальное помещение, и еще на три фута занимала каменный фундамент здания, построенного над камерами.
Он взялся за прутья решетки и позвал нас. Увидев кандалы, он опустил голову и проговорил: «Боже милостивый…» — но времени у него было в обрез. Прежде чем его прогонят, нужно было еще успеть передать продукты Ричарду, Эндрю и матери. Он протянул небольшую буханку хлеба, мех с водой, шаль для меня и куртку для Тома и торопливо сказал:
— Слушай, Сара. Пейте сначала из меха и только из открытой бочки, если очень захочется. Хлеб надо растянуть на подольше. Если жевать долго, будет казаться, что его не так мало. В следующий раз постараюсь принести мяса, но это будет не раньше чем через несколько дней. Обещай, что сделаешь, как я велю. — Он протянул руки между прутьями решетки, привлек меня к себе и сказал: — Не делись хлебом ни с кем, кроме Тома. Здесь есть женщины, которые умирают от голода и которые будут умолять тебя дать им кусок, но ты заболеешь и умрешь, если не сделаешь, как я тебе говорю. Слышишь, Сара?
Я кивнула и завернула хлеб в фартук, а он повернулся к Тому:
— Том, помнишь, что я сказал тебе в тот день? После того, как ты сбросил кожаный ремень на поле. Помнишь? — Когда Том кивнул, отец сказал: — Настал твой черед. Я приду, когда смогу.
Он приготовился уходить, но я, вспомнив о сестре, спросила:
— Где Ханна?
Он быстро нагнул голову и сказал:
— Она у преподобного отца Дейна. Там о ней позаботятся.
Жена преподобного отца была женщиной доброй, но строгой, и я подумала, что же будет с Ханной, которой всего три года, дикой, грязной и постоянно требующей внимания. Долгие месяцы я заменяла ей мать, и вот ее снова отрывают от семьи. Я заплакала, вспомнив все случаи, когда была с ней жестока, нетерпелива или безжалостна.
Отец пересек коридор, чтобы передать немного еды Ричарду, Эндрю и наконец матери. Когда мать просунула руки между прутьями решетки, он прижал их к своим глазам и сказал что-то нежное. Потом шериф позвал его. Когда отец ушел, наступили сумерки. Наша камера, наша «хорошая камера», выходила на запад, и лучи заходящего солнца на короткий миг заглянули через узкие, как щели, окошки, расположенные высоко в стене, окрасив нашу кожу красным и желтым, будто загорелась солома и мы могли сгореть заживо в своей темнице.
Паразитам хватило нескольких часов, чтобы забраться мне в волосы, и я проснулась посреди ночи оттого, что у меня горела голова. Я стала чесаться, раздирая кожу и чувствуя, как вши бегают по пальцам. Женщина у противоположной стены мучительно застонала, повторяя с каждым вздохом: «О боже, мой зуб! О боже, мой зуб…» Она продолжала стонать и после того, как ее попросили замолчать, а некоторые даже принялись осыпать ее проклятиями. Стало холодно, и я закуталась в шаль. Взглянула на Тома, но, судя по его ровному дыханию, он крепко спал. Дикие стоны продолжались около часа, пока какая-то женщина не влила в рот страждущей какую-то жидкость. Вскоре стоны сменились тихими всхлипываниями, а потом женщина впала в забытье.
Послышалось какое-то шуршание в соломе, и вдруг я увидела пару темных блестящих глаз, близко посаженных по обе стороны острого рыльца. Зверюга наблюдала за мной, принюхиваясь к спрятанному у меня в фартуке хлебу. Я пихнула ее ногой, и она залезла глубже в солому, но не ушла. Тогда я пнула ее сильнее, и она исчезла под подстилкой. Спала я урывками, пока тусклый утренний свет не проник в камеру, и только теперь смогла лучше рассмотреть лица женщин, окружающих меня со всех сторон. Они открывали глаза одна за другой, в каких-то застыла боль, в каких-то отчаяние. Одни молились о спасении, другие о смирении, но всех их ждал еще один день тяжкого заточения. У всех этих жен, матерей и сестер, которые трудились, молились и от чистого сердца помогали соседям, был растерянный взгляд — они не понимали, почему их обвинили, заточили в тюрьму и, как видно, забыли те самые соседи.
Некоторые были настолько неряшливы, что валялись у ведер с нечистотами, чесались и растирали зудевшие места, не обращая внимания ни на одежду, ни на приличия, не поправляли фартуки, не зашнуровывали корсеты, не подтягивали чулки. Большинство, однако, старались содержать себя в порядке — утирали лицо рукавами, чистили зубы подолом фартука, и выглядело это и благородно, и грустно одновременно. Они делились друг с другом тем, что у них было. Видавший виды гребень передавался из рук в руки осторожно и торжественно, будто это был некий священный предмет. Тем, у кого были раны от кандалов, давали остатки мази. Не одна нижняя юбка была разорвана, чтобы перевязать открытые раны. У женщин детородного возраста не было ни овечьей шерсти, ни мягких кожаных прокладок, когда приходили месячные, и некоторым приходилось, сгорая от стыда, собирать юбки в складки и придерживать их сзади, чтобы скрыть пятна крови.