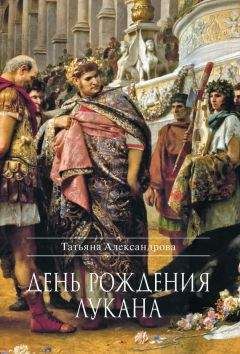– Послушай, а этот ваш Менекрат… он не родственник тому кифареду, любимцу Нерона?
– Нет, это простое совпадение. Ну да ладно, не будем терять времени! Давай вернемся в ту беседку, где мы сидели, оттуда видно, кто подплывает с моря, если Поллий вдруг решит вернуться раньше, мы успеем его заметить. За эти дни я в очередной раз пережила все, что было, много думала, так что, пожалуй, смогу рассказать тебе нечто связное и ответить на любой твой вопрос.
Они вернулись в круглую мраморную беседку, основание которой шумной пеной омывали ленивые волны голубого залива. Полла начала рассказывать свою историю с самого начала, многое, впрочем, пропуская и останавливаясь подробнее на том, что казалось ей важным. По ее просьбе служанка принесла большой стеклянный кубок с водой, Полла поставила его прямо на широкий парапет беседки и время от времени, прерывая рассказ, делала глоток.
Солнце медленно двигалось за их спинами, прозрачные голубые тени от облаков перебегали по заливу, придавая объем извилистым далям, а перед глазами сосредоточенно слушавшего Стация поверх вида этого голубого простора одна за другой возникали и таяли картины, соответствующие рассказу. Когда Полла вспомнила слова Лукана о том, что его муза, Каллиопа, выше камены Персия, Талии, богиня почему-то представилась ему похожей на Поллу: та же безупречная правильность черт лица, простая прическа, неизбывная печаль во взгляде. «Каллиопа – “прекрасноликая”, – подумал он. – Наверное, и она так же скорбит по своему избраннику!»
Солнечный свет зазолотился, а само светило на время скрылось за скалистым берегом, когда Полла дошла в своем рассказе до смерти Лукана. Ей стало трудно говорить, речь ее сделалась прерывистой, голос звучал ниже, временами она надолго замолкала, прежде чем что-то сказать. Произнести стихи, которые поэт читал перед смертью, она не смогла, но Стаций опознал их и знаком попросил не продолжать. По щекам ее потекли слезы, и она долго не могла возобновить рассказ, пытаясь глубоким дыханием и глотками воды успокоить внутреннюю бурю. Стаций уже хотел предложить ей закончить, но она, угадав его намерение, отрицательно покачала головой и продолжила:
– После его смерти… я… какое-то время была совсем невменяемой. Я не помню, но мне потом говорили… что я все твердила: «Он уснул, тише!»… Опасались, что я лишилась рассудка. Даже не запомнила похорон. Но потом я пришла в себя и оказалась совершенно в другом мире, точнее сказать, в хаосе. Моя мудрая бабушка была права, убеждая меня, что надо было бы вникать в имущественные дела, но кто же знал, что так получится? Мне было ни много ни мало двадцать лет, и я ничегошеньки не понимала в тонкостях своего брачного договора и в вопросах наследования. Я была, что называется, «вручена» роду Аннеев, и соответственно в случае смерти мужа моим опекуном естественным образом становился свекор, что и произошло. Но его вскоре погубила собственная жадность. Ему было мало, что к нему сразу отошло наследство вдового Галлиона, чья единственная дочь Новатилла, удочеренная Сенекой, была давно замужем и уже получила свою долю в качестве приданого; к нему же должно было отойти имущество вдовы Сенеки, бездетной и тяжелобольной после неудачного самоубийства Паулины, о которой сразу было понятно, что она не заживется. Разумеется, мой добрый свекор не сомневался, что все состояние его покойного сына принадлежит ему, а с несущественной помехой в моем лице можно вообще не считаться. Он тут же начал даже выбивать долги из друзей Лукана. Фабий Роман тогда вел с ним тяжбу из-за этого, пытаясь, в частности, защитить мои права. Кроме того, лишившись наследника и не желая делать главной наследницей жену, по вражде к ней, Мела тут же усыновил двух неведомых мне доселе молодых людей. Не знаю, чем они снискали его доверие. Но своими действиями он привлек к себе внимание Нерона, и тут же нашлись люди, которые убедили принцепса, что столь огромное состояние в руках последнего представителя мятежного рода – угроза для государства, и что пока Мела не начал мстить цезарю за смерть братьев и сына, его надо обезвредить. К заговору он был некоторым образом причастен через любовницу, хотя сам, в силу природной бездеятельности, не играл в нем заметной роли и никем не был выдан. Но тут подделали письмо Лукана – в данном случае никто даже не сомневается, что это была подделка (его почерк нельзя было подделать, как нельзя подделать и его стихи), – и Меле пришлось последовать общим путем Аннеев.
После его смерти мы, три оставшиеся женщины: Ацилия, Паулина и я – оказались во власти наших новых родственников. Я понятия не имею, что там были за дела. Состояние и правда было слишком огромным – поначалу. Я даже не знаю точных его размеров. Виллы по всей Италии, да еще и в Испании, дома в Риме и его предместьях, собрания произведений искусства, драгоценности. Впоследствии только ленивый не пытался отхватить себе кусок от этого пирога. Львиная доля, разумеется, досталась Нерону, потом что-то еще распродавалось. С Ацилией мы, можно сказать, и не виделись – даже горе нас не сблизило, ни одна из нас не хотела разделить его с другой. С Паулиной же я оставалась до конца ее недолгой жизни, ухаживала за ней, сама перевязывала ей руки, на которых никак не заживали раны. Ну, про ее вечную бледность знают все – я уже даже слышала, что выражение «бледна, как Сенекина Паулина» употребляется как поговорка.
Вместе с Паулиной мы пережили последние страшные годы правления Нерона. Моя мать тогда чуждалась меня – из страха, как потом сама объясняла. Я не осуждаю ее, но мне она стала совсем чужим человеком. А с Паулиной мне было легче переносить свое горе. Сенека воспитал ее стоиком, несмотря на неудачное самоубийство, она не отказалась от своих убеждений. Нас не трогали – видимо понимая, что наказать нас сильнее, чем уже наказали, невозможно. Как с обломка корабля, потерпевшего кораблекрушение, наблюдали мы за всем, что происходило. Вынужденное самоубийство Петрония, убийство Поппеи Сабины, казнь Тразеи Пета, шутовская женитьба Нерона на евнухе Споре и настоящая – на Статилии Мессалине, его мусические и атлетические успехи, смешанные с кровью, стремительное разрастание Золотого дома и воздвижение этого жуткого колосса – все это проплывало где-то перед нами и вдали от нас, не затрагивая нас. Медленно угасавшая Паулина успела-таки увидеть конец этого порфироносного шута, узнать о его заячьем трепете перед смертью и услыхать это пресловутое, передаваемое из уст в уста: «Какой артист погибает». Надо ли говорить, каким утешением было для нее сознание того, что справедливость все же торжествует? Возможно, именно надежда на это конечное торжество справедливости и давала ей силы жить. А потом ей уже не было смысла идти дальше…
Со мной было иначе. В моей голове огненными буквами пылало одно-единственное слово: «Фарсалия». Я знала, что должна ее сохранить, потому что, кроме меня, сохранить ее было некому. Поэтому я старалась выжить во что бы то ни стало. Было время, когда я сама начала кашлять, и врачи уже произносили роковое слово «фтизис», но мое стремление жить победило болезнь.
Я не напрасно прятала поэму. К нам действительно приходили с обыском, отобрали некоторые издания более ранних сочинений Лукана. Я потом с трудом отыскивала их списки у книготорговцев. К моему величайшему огорчению, отобрали и то обращение ко мне, которое он написал собственной рукой. Почему-то я не подумала о том, чтобы укрыть и его. К счастью, ни один из десяти свитков «Фарсалии» найден не был. Я верно угадала: дальше просмотра индексов они, как правило, не шли. Иногда разворачивали свиток, но на то, чтобы опознать, то́ ли это произведение, которое значится в индексе, их начитанности явно не хватало. Но я успела присмотреться к августианцам – именно они производили обыски. Это были, как правило, юноши не старше восемнадцати лет, которых воспитывали в духе слепого поклонения Нерону. Они произносили его имя с придыханием, чувствуя себя жрецами божества. Сначала они внушали мне ужас, потом стало их жаль. Говорят, мало кто из них впоследствии нашел дорогу в жизни. Слепая вера в земное божество, потом полный крах этой веры – все это не прибавляет жизненных сил… Большинство из них кончили век бесславно.
Но я отвлеклась. Итак, пока жив был Нерон, об издании «Фарсалии» не могло быть и речи. Свитки ее, пропитанные кедровым маслом[144], покоились в библиотеке, сначала в том доме в Ламианских садах, который так ненавидел муж и который никак не могла покинуть я, потому что там каждый камень отдавался его шагами. Потом в пригородном имении Сенеки, куда я переселилась, чтобы быть вместе с Паулиной. Когда пал Нерон, я далеко не сразу отважилась обнародовать поэму. Мне было страшно выпустить ее из рук. Прежде чем отдать ее издателю, я сделала еще один список, вновь пройдя через все ее перипетии и поражаясь тому, как она по частям сбывалась в нашей собственной жизни. Потом я все-таки решилась, отпустила из рук новый список – первый был мне слишком дорог. Успех был сокрушительный – иначе не могу сказать. Он принес мне и радость, и скорбь. Радость – что поэма наконец нашла читателя, что «лучшая часть» души Лукана обрела новую, вечную жизнь и в этом мире. Но не менее сокрушительным было непонимание. До сих пор ученые мужи важно рассуждают, почему Лукан недостоин числиться среди поэтов. Кто же достоин, если не он? До сих пор звучит мысль Петрония, что «Фарсалия» – это не поэзия, а история в гекзаметрах. Я, кстати, так и не поняла, что пытался сказать Петроний в своих сатирах, вложив в уста этому болвану Эвмолпу некую поэму о гражданской войне. Мы все же привыкли уважительно относиться к самому Петронию и к его мнению, и мне тогда казалось, что он неплохо относился к Лукану… Неужели мы так ошибались и в нем жило лишь пустое, холодное насмешничество, не имеющее святынь? Но смерть и самого его настигла слишком скоро, так что вопрос остался без ответа. Кроме того, по тому, что пишет Петроний, создается впечаление, что ему были знакомы многие места из последних глав поэмы. Возможно, Лукан что-то читал ему при личных встречах – просто мне он об этом ничего не рассказывал. Но я говорила, что с тех пор, как он ввязался в этот заговор, его закружил какой-то вихрь, и он сам, похоже, не всегда осознавал, что делает. Когда я читала эти сатиры, мне казалось, что даже в том шутовском окружении, в устах глупца Эвмолпа, перевернутая по сравнению с замыслом Лукана и по сравнению с его летящим стихом довольно нескладная метрически поэма о гражданской войне все-таки начинает звучать как клич боевой трубы, предвещающий конец этого шутовского царства. Но это всего лишь мое личное впечатление, я могу ошибаться. Думаю, что эта загадка уже не для меня.