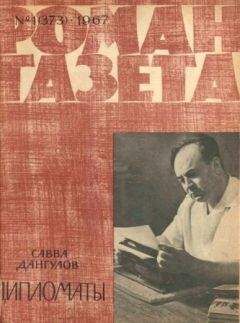— Никого мне не надо, кроме тебя. Анастасия. Пусть все восстанет и ополчится.
Пусть все пойдет на меня войной. Отобью тебя у всех демонов.
Репнину казалось, что он шел сюда через море, полное грома и всполохов, и дошел до берега тишины.
— Знаешь, Николай, вот эта тревога и… ожесточила меня, и родила решимость, которой вчера не было.
Он привлек ее и ощутил, как она ладно слеплена — шея, руки, плечи, округлые и неожиданно хрупкие.
Елена пришла после одиннадцати — у Патрокла во флигельке горел свет.
— Ты почему так долго не спишь? — спросила она и припала холодной щекой к руке Ильи — почти весь Каменноостровский она прошла пешком.
— Сядь… Слыхала? Егор приехал.
Она все сразу поняла: мигом отлегло от сердца.
— Замани его утром сюда… — Он пододвинулся к ней, стул угрожающе заскрипел, миг — и развалится. — Сил нет хочу видеть!..
Она взглянула на Илью, и вдруг он показался ей таким беспомощным и дорогим.
— Да уж заманю. Только не волнуйся. — Она поцеловала его жесткий чуб.
В эту ночь Елена долго не могла заснуть. Наверно, не спал в своем флигельке и Патрокл. К тревожным вздохам ветреной тьмы, быть может, прибавлялись и его вздохи. Он видел сына шесть лет назад. На Балканах в ту пору гремели пушки, и русские дипломаты не часто наезжали в Петербург. Патрокл прорвался в Питер, но так и не сумел проникнуть в дом к сыну. Он видел его в окно. Три стекла разделяли их. Егорка был на расстоянии протянутой руки: его желтые с огнинкой вихры, его подбородок, его маленькие, будто прорисованные уши, все репнинское, неподдельное, настоящее. Сын стоял рядом, но казался мертвее дагерротипа. Только и было возможности для Ильи сделать Егорку живым: вскинуть кулаки и расшибить стекла, расшибить и прикоснуться к тонкой и теплой ребячьей коже: «Живой Репнин!» И вот Егорка в Питере, пятнадцатилетний, почти взрослый. Трудно поверить: здесь, через дорогу, рядом. Сберегут ли они его до утра? И вновь гудят бронхи и ветер притопывает по железной кровле и не может отогреть безнадежно замерзшие ноги. Только сберегли бы его до утра.
Поутру, едва открыв глаза, Елена услышала характерный шум кофейной мельницы: пришел из своего флигелька Патрокл. После такой ночи только и надежды на кофе. Сейчас по дому пойдет вкусный маслянистый запах, Патрокл нальет себе коричневой жидкости в чашечку, и вмиг блестящая маслянистость переселится в глаза, и они станут молодыми.
— Аленушка, — вдруг услышала она голос Патрокла у самой двери, — нет моей моченьки ждать, пойду на воздух, так оно лучше. Часа за два управишься, а? Вот и хорошо. А я пошагал.
Елена подумала: небось не шибко пошагал Патрокл. Давно уже он шибко не шагает. И ей привиделось, как идет Патрокл: с Каменноостровского на Кронверкский, в деревастую полутьму парка, по тропам, едва присыпанным снегом, вдоль литых чугунных оград. Вон как длинно протянулись и тоска, и ожидание — сколько на его пути уместилось улиц. Не от турецкого же кофе, крупно накрошенного шестигранной мельничкой, привезенной из Черногории, столько сил у Патрокла.
В урочный час Илья Алексеевич был дома. Нащупал цепочку с нехитрым набором ключей, отобрал английский с щербинками, осторожно открыл парадную дверь. Стоял, прислушиваясь. Прошел в гостиную — ни звука. В столовую — так же тихо. Да не уехал ли он, господи? Нет, не может быть — тогда Елена была бы дома. Он прошел к себе — впервые с тех пор, как перебрался во флигелек. За окном, разогретая солнцем, вызванивала капель. И он повторял за нею вслед счастливо-беспокойное: раз, раз… Однако, кажется, открылась дверь, открылась внезапно. Дом будто вздохнул, и тотчас застучали каблучки Елены: привела! Ну конечно, по шагам слышно — привела!
— А у нас как будто никого нет, заходи. Егорушка.
Илья глубже ушел в кресло, точно желая защититься от голоса, который сейчас услышит. Заскрипели ботинки, не торопясь, с обдуманной важностью.
— Простите. Елена Николаевна, это и есть ваш родительский дом?
— Ну конечно. Егорушка, ты должен помнить.
— Представьте, не удержала память. — Вновь заскрипели ботинки.
— А я сейчас покажу тебе мастерскую папы, и ты все вспомнишь. Говорят, маховое колесо было и твоей страстью.
— А у вас в доме есть маховое колесо?
— Есть, разумеется.
— Это у всех… дипломатов такие колеса?
Илья улыбается: наш. Репнин, умеет видеть смешное.
А шаги все ближе. Сейчас он войдет в неширокое поле полуоткрытой двери, и Илья его увидит. Однако он придержал шаг, Илья даже подался вперед. Наверно, все, что встречает на своем пути, рассматривает: для него дом Репниных — русский дом, едва ли не первый русский дом. Илья не сдержал вздоха. Почти рядом с ним стоит, нет, не мальчик, а отрок, быть может, даже юноша. На лице и руках удерживается загар, словно знойный июль был только вчера. А глаза темно-карие, репнинские. Да и в стати его есть что-то, только чуткому глазу Ильи доступное, особое, коренное, репнинское. А в мастерской уже зашумели, завертелись колеса и рассыпал веселые искры напильник. Потом разом все стихло.
— Елена Николаевна, теперь я вспомнил: я был здесь.
И стало еще тише, видно, он наклонился над точильными камнями.
— А как у вас тихо, Елена Николаевна, будто и дома никого нет.
— Папа ушел рано, а дядя… работает.
Илья понял: пришла его минута. Он встал.
Вот и полонили его и тревоги вчерашнего вечера, и бессонная ночь, и поход по длинным каменным путям города.
Он шагнул, пошире открыл дверь, увидел лицо Елены: оно было белым, мелово-белым. Да неужели Илья так плох, что она пришла в смятение?
— Здравствуйте… Илья Алексеевич!
Это сказал он. Хотелось рвануться к нему, сгрести, всей грудью ощутить тугую крепость плеч, уже не мальчишеских: «Егорка, кровь моя, как же долго я тебя ждал!» Хотел сказать. да вот разом убыло дыхание.
— Представьте, вошел в дом и точно никогда в нем не был, а тронул это колесо маховое, и все раскрутилось… все детство мое! Даже странно: как будто на это колесо оно и было намотано.
Илья улыбается: наш, Репнин, и слова все наши.
— Ты его в обратную сторону крути. Егорушка, — произносит Илья.
— Не буду крутить, — говорит Егорка и смеется. И старший Репнин смеется, смеется радостно, как давно уже не смеялся. И Елена улыбается, правда, как-то виновато. Она словно говорит: «Патрокл, бедный мой Патрокл, как же мне тебя жаль!» Нет, это только так кажется Илье Алексеевичу. Елене тоже хорошо, вот она и смеется. Всем троим хорошо. Господи, случится же такое счастье!
Елена наскоро переоделась, поужинала — в семь на Леонтьевском. в двух шагах от Смольного института, ее ждал Кокорев.
Елена поймала себя на мысли: будто ничего и не изменилось, как прежде, она бежит в институт. Издали угадывался и хорошо выпеченный пасхальный кулич собора, и мохнатая, и снегу шапка смольнинского парка, и восемь колонн института за парком. Елена помнит: в этот час, отмеченный мерным дыханием большого колокола — он точно выдыхает гудящие удары, — смолянки возвращались из собора после вечерней службы. Как давно это было! Кажется, только камни и молоды, все остальное — собор с мощными куполами, институт с колоннами — померкло и сникло.
— Олена!
Она оглядывается: разумеется, он, кроме него, ее никто так не зовет. Видно, долго ждал: щеки разогрел мороз. Рядом огни Смольного, а по ту сторону Невы туманно-призрачные огни Охты.
— Помнишь, как мы первый раз ехали через Троицкий? — спросила она. — Ты сидел впереди и рассказывал, как ходил с белым флагом к немцам, как завязывали тебе глаза… Ты рассказывал это тогда для папы или… для меня?
— Не было бы тебя, рта бы не раскрыл, — сказал он. — Так глуп и так храбр человек бывает лишь однажды.
Елена засмеялась.
— Не слова ли это твоей мамы? — спросила она, продолжая смеяться.
Он встрепенулся.
— А ты откуда знаешь?
— Знаю.
Сейчас она шла рядом. Он коснулся губами ее виска, его нелегко было отыскать — висок был затенен волосами.
— Олена, я все собираюсь спросить: детский доктор… это серьезно?
Она хмыкнула, пошла быстрее.
— Не представляю себе большего счастья, как стать детским доктором! — заговорила она. — Вначале простым, который ездит на извозчике со своими трубками и молоточками, уложенными в саквояж, и на Караванную, и на Сердобольскую, и на Разъезжую, по всему большому Питеру ездит и помогает младенцам, а потом главным детским доктором, например. Елизаветинской больницы на Фонтанке или Петролюбовской на Дегтярном. И чтобы больница умела лечить все: и золотуху, и корь, и ветрянку, и английскую болезнь. И чтобы больница была бесплатной, без всяких справок от полиции. И чтобы обязательно для самых маленьких.