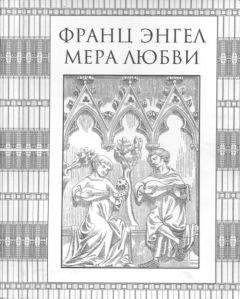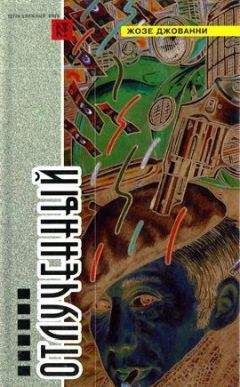Де Бельвар решил взять себя в руки и впредь проявлять большую осмотрительность. Джованни он опасался что-либо говорить хотя бы намеком, ради спокойствия его совести. Граф меньше всего желал сделать из друга без вины виноватого.
Так и вышло, что Джованни продолжал пребывать в полном неведении относительно терзаний де Бельвара, и конечно же у него не было поводов изменить свое отношение к графу, он все так же продолжал ластиться к нему и нисколько не смущался оставаться с другом наедине. Граф, чтобы не обидеть Джованни, не мог оттолкнуть его, отсесть от него в другой угол комнаты, не мог призвать его вести себя скромнее. Тогда Джованни, без сомнения, удивился бы и принялся расспрашивать друга, что случилось, что он не так сделал, чем досадил или обидел, а на подобные вопросы де Бельвар не смог бы ответить. Графу приходилось скрывать свою заботу и вести себя как обычно, ибо между ним и Джованни действительно как будто ничего нового и не происходило; только вот держать себя в руках стоило де Бельвару с каждым днем все больших и больших усилий. В конце концов граф начал даже задумываться, насколько может быть наивен Джованни. Неужели он ничего не понимает? А если все же хотя бы догадывается? Он же так хорошо разбирается в человеческой природе, а ведет себя, словно малолетний монастырский послушник. Откровенно поговорить с другом именно на эту тему, единственно на эту, де Бельвару представлялось делом абсолютно немыслимым.
Граф совершенно измучился, ему приспело время ехать в Честер отправлять правосудие, и нужно было принимать какое-нибудь решение.
Уступить своему влечению значило для него забрать Джованни с собой. Де Бельвар был уверен: ежели сейчас он настолько привязан к Джованни, что забросил все свои дела и безвыездно сидит в Силфоре, то дальше будет только хуже, он уже ни за что не сможет расстаться с ним даже на малое время, оставить его где-либо без своей заботы и защиты, и Джованни придется ездить за нам повсюду, куда бы он ни направился. Получалось, его милый друг был бы вынужден отказаться от своей нынешней жизни, бросить все свои обязанности, а захочет ли он это сделать? Граф сильно сомневался в положительном ответе на этот вопрос. Джованни воплощал собою свой статус епископа Силфорского, благодаря которому он принадлежал к первому сословию, и в качестве епископа распоряжаться его судьбой мог только Святой Престол. «О, какая жалость, — думал де Бельвар, — что Джованни не стоит вне сословной иерархии, как, скажем, те же трубадуры, или не может сделаться военным, чтобы они могли стать соратниками, как Оливье с Роландом». Бесполезно было горевать о том, что невозможно поправить. Его друг — духовное лицо, а следовательно, вынужден подчиняться множеству условностей и запретов, ограничивающих его жизнь тесными рамками церковной дисциплины. Более того, де Бельвар считал Джованни человеком, как говорится, на своем месте, хорошим священником, и лишить его благой деятельности на пользу Силфорской епархии ради собственной прихоти граф почел бы делом низким и недостойным. С другой стороны, де Бельвар и представить себе не мог, как Джованни отреагирует на переход их отношений из дружеских в любовные. Вдруг Джованни вообще не ожидает этого? Что тогда произойдет? Вдруг это станет для него непоправимым ударом, он впадет в отчаяние оттого, что признает себя потерянным для Церкви, для света, и, не дай Бог, надумает каких-нибудь глупостей?
Одно только и оставалось де Бельвару, если он хотел сохранить для Джованни все как есть. Ему требовалось уехать, ибо у него уже не доставало сил притворяться, будто он способен отвечать на ласки без влечения, и у него больше не было охоты жить одним днем, не задумываясь о том, что их ждет дальше. Однако решить проще чем сделать, граф не мог заставить себя попрощаться с Джованни. Каждый день он шел к другу с этим намерением и всегда, стоило ему лишь увидеть Джованни, откладывал свой отъезд до следующего раза.
Объяснение получилось весьма неожиданное и скомканное. Вышло так, что они сидели рядом на кресле перед пустым камином в зале епископского дома и молчали, изнывая от желания, напряженные, словно сам воздух вокруг них трепетал как живое существо — хищник, безжалостно задушивший их разговор, а теперь подбиравшийся к ним самим. Джованни выглядел в последнее время не менее потерянным и расстроенным, чем граф, он то веселился без причины, то впадал в меланхолию, и де Бельвар понятия не имел, как его бедный друг объясняет сам для себя свои странности. Вдруг Джованни бледный, с горящими глазами повернулся к де Бельвару, словно умоляя его о помощи. Он, верно, хотел что-то сказать, но их взгляды встретились, и де Бельвар очнулся только коснувшись губами губ Джованни. Граф вскочил, физически разрывая сеть нежности, захватившую его столь полно и властно, что ему стоило неимоверных усилий вырваться.
Нам надо расстаться, — произнес он глухим голосом. — Немедленно, иначе вы, Жан, сильно пожалеете, что мы этого не сделали. Я уезжаю.
Проговорив все это одним духом, не глядя на Джованни, граф выбежал прочь. Если бы он помедлил хоть мгновение и Джованни успел бы попросить его остаться, он бы не смог уйти. Де Бельвар бросился к Тибо Полосатому и с порога приказал седлать коней, помчался в Стокепорт, там сразу распорядился, чтобы его люди немедленно собирались для отъезда. Отбыли на следующее же утро, в большой спешке. Обоз и дамы должны были ехать следом, через несколько дней. Никто не знал, чем вызвана такая горячка.
После ухода де Бельвара Джованни остался сидеть на своем месте, сложив на коленях руки и глядя на захлопнувшуюся за графом дверь, словно ожидал его возвращения. Сколько он так просидел, не меняя позы, неизвестно, — ему было так больно, что он сделался словно бесчувственным.
Де Бельвар ошибался на его счет. Джованни прекрасно понимал, что происходит, он любил и был любим в ответ, только выхода из этой ситуации, так же как и граф, Джованни не видел. Он попытался было уверить себя, что де Бельвар поступил правильно, иначе просто невозможно было поступить. Он старался смириться, принять неизбежное, но все его существо протестовало против такого решения. Джованни чувствовал, как задыхается, впервые за свою жизнь он пожелал для себя смерти.
Но конечно, Джованни не умер, он продолжал служить мессу, пытался наладить добрые отношения и со своими подчиненными, и с прихожанами. Благополучно отпраздновали под его руководством престольный праздник Силфорской церкви. А чтобы надолго отвлечь себя делами, Джованни употребил возвращенные ему канониками деньги для созыва местного синода, общего собрания клириков своего диоцеза, на Архангелов день в Силфоре. Священники прибыли к назначенному времени практически в полном составе, и собор прошел неплохо, Джованни был даже несколько удивлен, сколь положительные плоды принесла его визитация год назад. Он убедился, что каноники Святой Марии Силфорской не слушаются его из чистого упрямства, ибо сельские священники, благодарные ему за его нежданную и негаданную терпимость, с чистым сердцем откликнувшиеся на его увещевания и оценившие его стремление помочь им в их нелегкой службе, искренне уважали своего епископа. Джованни пытался сохранять спокойствие, притворяться безмятежным, но не успел собор прийти к концу, не успели все священники разъехались по своим приходам, как он слег с жестокой лихорадкой.
Каноникам сперва такое положение вещей не понравилось. Еще чего не хватало — возиться с больным епископом, когда он им и здоровый-то был в тягость! Однако скоро они смекнули, что так Джованни, пожалуй, и преставится, а это могло бы послужить им на пользу. Они дурно ходили за ним, и вероятно уморили бы, как и намеревались, если бы не вмешательство телохранителя Джованни, Филиппа де Бовэ, уведомившего обо всем богатого торговца Тибо Полосатого. Деньги Тибо сотворили чудо, больше которого могло бы принести пользу больному лишь внезапное возвращение де Бельвара: промаявшись с месяц перемежающейся лихорадкой, которую в народе не без оснований именуют любовной, Джованни пошел на поправку. Он очень исхудал и ослаб, не смеялся больше, даже улыбался словно через силу, почти ничего не говорил. Он по-прежнему не хотел жить, лишь какая-то смутная надежда поддерживала его безрадостное существование. Он думал о де Бельваре постоянно, если такое возможно, молился о его благополучии и о том, чтобы он вернулся.
Граф долго ничего не знал, пока в Честер не прибыл посланник от Тибо Полосатого с письмом. Сердце де Бельвара сжалось, когда он ломал печать, ведь благодаря Джованни ему не нужно было никого звать, чтобы прочесть, что там написано. Тибо рассказывал о жизни в Силфоре и подробнее всего о болезни епископа; сметливый торговец уверял графа в отсутствии опасности, объясняя лихорадку Джованни непривычкой к суровому климату, и не забыл похвалиться множеством услуг, оказанных графскому другу: он привез для Джованни хорошего лекаря, посылал в епископский дом своих слуг ходить за больным, самолично следил, чтобы у Джованни ни в чем не было недостатка. Де Бельвар хотел сразу же, сей же час ехать в Силфор, но не мог бросить свои дела немедленно, нельзя было совершенно пренебрегать укреплением своей власти, граф считал слишком опрометчивым поступком отменить уже назначенную ассамблею, приходилось призвать на помощь все свое благоразумие, чтобы вытерпеть несколько дней. Однако прежний опыт беспокоил де Бельвара: не единожды становился он свидетелем того, что любое известие о болезни, возможно, предвещает скорую смерть. Граф применил единственно доступное ему средство, способное принести хоть какое-то, пусть незначительное, успокоение: послал в Силфор гонца, приказав тому разузнать подробно об обстоятельствах болезни епископа, о настроениях в городе, и ни в коем случае не привлекая ничьего внимания, обернуться до Силфора и обратно так быстро, как только возможно.