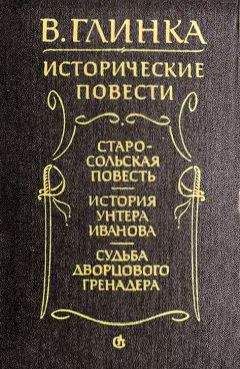— Добрей его никого нету, — охотно отозвался Балашов.
— Оно так, да больно неосторожные они…
— В чем же? — Голос Семена стал иным, настороженным.
— Разговоры при людях заводят вольные, — продолжал Иванов, хотя уже чувствовал, что нужного не узнает. — При мне, понятно, ничего, я князя да Вильгельма Карлыча ни в жисть не выдам, а при других так бы не заговорили.
— Не пойму, насчет чего толкуешь, Александр Иванович, — дернул плечом Балашов.
— Да насчет, к примеру, чтобы всех крестьян ослобонить или чтоб в судах правильно с господ взыскивали…
— Мало ль чего мечтается? Про то и говорят. Вильгельм Карлыч по чужим краям разного насмотрелись, вот и вспоминают…
— Не спомин я слышал, а чтоб у нас таковское водворять, — настаивал унтер.
— Нет, Александр Иванович, тут ты, видать, чего не понял. Барин мой все про сочинения свои толкуют. Сейчас про итальянца какого-то старинного писать вздумали…
«Не верит мне, — сокрушенно подумал Иванов. — С Никитой иначе говорил, раз видел, как Рылеева слушал. Там не отопрешься».
Простились у Офицерского моста. Семен своей свободной, легкой поступью пошел в казармы Гвардейского экипажа, а Иванов, посмотрев ему вслед, зашагал на Исаакиевскую размеренной походкой солдата, тело которого удалось обратить в подобие механизма.
«Может, Андрея Андреича спросить? — думал он, печатая шаг. — Но когда еще наработаю, что ему нести? И с чего начать? Будто на корнета своего доносишь. Нет, подожду, пока опять Балашова встречу. Может, поймет, что от тех речей и у меня душа горит…»
Вечер спускался на город. Моросил мелкий дождь. Уже горели фонари у подъезда театрального училища. Здесь всегда в этот час офицеры и штатские франты дожидались выхода воспитанниц, которых возили в театр в зеленой неуклюжей карете. Вот и сейчас она как раз подъехала, и молодые господа к ней сбежались. А в театре, что там?.. Должно, занятно, раз вечерами на площади от экипажей проходу нет. Поди, не то, что Красовский про Орел рассказывал. Может, тут, как Дарья Михайловна, прекрасно поют? Вон Александр-то Сергеевич про актерок здешних говорил, будто куда барышень благородных умней да душевней… А Никита как уверен, что Грибоедов князя бы образумил. Да я-то знаю, что и он тех же мыслей. Вон как про генерала Измайлова говорил…»
На этом Иванов спохватился и повернул в полк, — незачем нынче на Исаакиевскую ходить. Семен вернется, там его застанет и непременно подумает, что не зря зачастил, все выведать хочет… А в жученковском закутке можно еще поработать час-другой.
Он пошел на Исаакиевскую вечером в среду — соскучился по знакомым людям. Слуги ужинали на кухне, и повар сразу наложил полную тарелку каши и подал ложку. Еще за столом заметил, что Никита вполне спокойный и ест исправно.
Уведя Иванова к себе, расплылся в улыбке и зашептал:
— А ведь клюнуло! Нонче за полдень ответ офицер привез. Вон как — шесть ден туда да три обратно. Курьер ехал, и князь Иван Сергеевич его, видать, хорошо одарил — сам завез без откладки. Пишет Сашеньке, будто прихворнул, и к себе в отпуск зовет. Ведь отпуску офицерского мы ни разу не брали. Сашенька и растревожился. Завтра же, сказал, подам прошение, а в воскресенье поедем. Хотел меня одного взять, а я прошу, чтобы и Курицына, — боюсь, избалуется с Семеном. Вот какое мы письмо славное удумали!
— А может, и верно князь старый нездоровы? — сказал Иванов.
— Полно! — засмеялся Никита. — Они знаешь что? Наконец-то зовут с мачехой знакомиться, как уж второго ребеночка ждут. У меня на неделе Сенин опять был, про московское сказывал, так я забоялся, что от таких делов к нам не поедут. Ан вот как славно вышло. Попадем в Москву, так уж, верно, все здешнее отложим, по балам затанцуем до Нового года, а то и доле.
— А тут у них, ты говорил, прошлый год девица благородная обозначалась?..
— Куда! Все бреднями глупыми сбито. Теперь бога молю, чтоб какая московская барышня-раскрасавица голову ему посильней закружила.
Через три дня князь Одоевский и Никита уехали. Курицын остался на Исаакиевской и с важностью водворился в комнатку камердинера.
В середине ноября после конца вольных работ начались обычные пешие учения, езда сменами в манеже и взводами на плацу, выводка коней, полковой наряд, разводы и дворцовые караулы. А тут еще Жученков больше, чем в наводнение, где-то простыл, сипел и кашлял, как конь от трухлявого сена. Однако не хотел идти в лазарет, а лечился сам в эскадроне водкой с перцем. Иванову приходилось много делать за него, и при этом он убедился, насколько был прав вахмистр: нет в нем твердости, без которой эскадроном не управишь. Сейчас слушаются, оттого что Жученков за переборкой все слышит, а как не будет его здесь?..
Двадцать пятого ноября, в день рождения князя Александра Ивановича, унтер вечером пошел на Исаакиевскую. Захотелось повидать хоть Курицына и повара, посидеть в тепле, а может, и вздремнуть на лежанке. В кухне было непривычно тихо — повар ушел со двора. Семен Балашов разливал чай по чашкам, ставил их на поднос.
— У Вильгельма Карлыча гости, — пояснил он. — Не хошь ли чайку духмяного, дорогого, с цветком? Поди, не пробовал.
— Спасибо. Налей, что ли. А Курицын где же?
— В «кабинете» своем на лежанке спит, — усмехнулся Семен.
Проходя через переднюю, Иванов увидел несколько военных и штатских шинелей, в углу — шпаги и сабли. Курицын лежал на лежанке, но не спал. Увидев унтера, живо вскочил и, прикрывши поскорей дверь, зашептал точь-в-точь как Никита:
— Видал, каков сход у нас? Никак третий час кричат… Семен второй самовар наставил.
— Да бог с ними, — сказал Иванов.
— А ты знаешь ли, чего сбежались? Государь помер в Таганроге, вот их и разобрало. Кричат все, что пора начинать, неча боле дожидаться… Чего они начнут-то, Александр Иваныч?
— Не может быть того, что государь помер, — сказал Иванов, — у нас в полку не знают.
— Верно говорю. От военного губернатора полковник тут был… Ох, боюсь, на нас несчастье накличут! — застонал Курицын.
«А Никита опасался, что от Семена баловства наберется. Истинно кличка по человеку», — подумал Иванов и сказал успокоительно:
— Раз князь в отъезде, так чего бояться? Знай добро береги, и все…
Новость оказалась верной. 48-летний Александр Павлович, выехавший из Петербурга 1 сентября вполне здоровым на юг вслед за больной царицей, 19 ноября скончался в захолустном Таганроге. Теперь его набальзамированное тело медленно везли через всю Европейскую Россию в Петербург, к Петропавловскому собору, где ляжет рядом с убитыми «верноподданными» дедом и отцом.
Начались торжественные панихиды. При дворе и в войсках был объявлен траур. На престол вступил второй сын царя Павла, Константин, живший с 1816 года в Варшаве, командуя польской армией. Спешно печатали листы, которые должны читать священники перед присягой, и подорожные, начинавшиеся словами: «По указу императора Константина Павловича», чеканили монету с его курносым профилем, уже продавали его портреты с титулом императора всероссийского. Со дня на день ждали нового царя в Петербург. 27 ноября гвардия принесла ему присягу.
Солдаты не печалились о покойном государе. После войн с Наполеоном его редко видели в столице, уж очень много разъезжал за границей и по России. Но старые конногвардейцы хорошо знали с довоенных лет нового государя и понимали, что радоваться нечему. Тупой поклонник плац-парадной муштры и манежной выездки, грубый с офицерами и жестокий с солдатами — таким помнили Константина, долголетнего шефа Конногвардейского и лейб-Уланского полков, над которыми особенно изощрялся в своей любимой «мирной» службе. Юношей Константин ездил в Итальянский поход с Суворовым, но в войнах с Наполеоном ничем себя не выказал, а в 1812 году Барклай выслал его из армии за интриги. Новый царь утверждал, что «война портит войска», то есть отучает их от плац-парадов и пачкает парадную форму. Солдаты были для него только игрушкой, послушно двигавшейся по команде, равняясь в струнку, одновременно выкидывая ноги в заученном шаге. Именно Константин сказал, смотря на замерших в строю гвардейцев: «Всем хороши, одно жалко — заметно, как дышат…»
— От него доброго ждать не приходится, — говорил вахмистр в своей каморке Иванову. — Одно в Стрельне знал: с шести утра на плацу гонять. Разве возраст взял свое? Хотя что от сладкой пищи сделается? А из себя прямо страшон: курносый, сутулый, длиннорукий — чистая облезьяна, каких в Париже по улицам водили, помнишь? Нам теперь надо ухо востро держать — по старой памяти в Конную гвардию разом сунется, как приедет.
И вдруг поползли слухи, что Константин не вступит на трон, потому что женат на полячке не царского рода, а царствовать станет третий по старшинству, 27-летний Николай Павлович, который командует гвардейской пехотной дивизией. В коннице его мало знали, но слышали, что придирчив и мелочен, поклонник фрунтовых фокусов, как старшие братья. Только еще вовсе пороху не нюхал, почему боевые заслуги в грош не ставит. Женат на прусской принцессе и выше армии тестя ничего не знает.