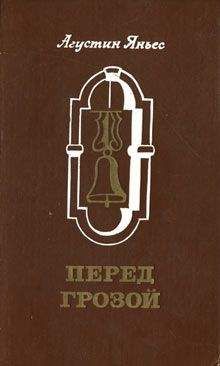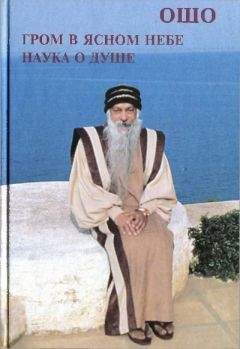— Габриэль!
И упасть с высоких небес, упасть из забытья прямо в тюрьму, которой он, казалось бы, избежал.
Он услышал свое имя, и ему представилось, что это он сам себя позвал, удивившись звуку собственного голоса.
Или будто снова под его руками зазвучали колокола, и ему удалось извлечь из них такие звуки, каких он сам доселе не слыхал.
— Какая неожиданная встреча!
Слова не спешили опуститься в тюремный мрак.
— Как я сочувствовала вам!
Будто колокольные удары падали в вечность.
— Уже невозможно жить так.
Когда же раздастся другой колокольный удар?
— А вы? Я представляю: каково вам!
Мелодичный монолог с паузами.
Нет, это не его собственный голос, грубый, неспособный расцвести, — и это не аккорды колоколов.
— Почему вы не были здесь утром.
Вопрос без вопросительного знака.
Вез ответа.
— А я надеялась встретить вас.
Почему так медленно падают слова?
— Хотела видеть вас.
(лова звучали без эха, словно падая в колодец.
— Что вы думаете делать?
И без паузы:
— Если бы я могла…
О чем ему говорят? Да, ясно: о колоколах.
— Не ожидала встретить вас сейчас.
Сейчас — снова — безнадежная пауза.
— Много раз я собиралась прийти сюда днем.
Так это не он задерживает слова, срывающиеся с чужих губ?
— С каким удовольствием послушала бы я отсюда, как вы играете на колоколах.
Конечно, это он, Габриэль, не дает спешить словам, пока они не осядут вечностью в глубине его сердца.
— Увидела бы колокольню и все селение под солнцем в этот час.
Голос, словно звук колокола, ритмичный, протяжный.
— Так и не удалось.
Кратчайшая пауза.
— И не удастся?
Где-то в глубине, глубоко-глубоко в глубине, хочет прорасти слово, чтобы прервать монолог.
— Пора возвращаться.
Статуя делает шаг. И произносит роковую фразу:
— Хотите проводить меня?
Габриэль не мог бы отказать ей, даже если бы она повела его на расстрел.
Как и тогда в церкви, он не в силах был сейчас противиться ее воле.
Под горой уже не слышно голосов.
Дорога неровная.
Богине трудно идти.
И здесь — небо и земля перевернулись в этот миг — богиня оперлась на руку юноши.
Мимолетно.
Ладонь, рука — теплый мрамор.
Смятенное молчание.
Мрачные полутени падают от скал.
И снова оперлась.
И еще, еще раз.
— Почему молчите?
Вековое молчание, пока не кончится спуск. Тоскливые мысли перехватывают горло, сжимают грудь Габриэля: Юна хочет, чтобы мы вместе вошли в селение? А если бы разразился ливень в горах и разлилась река, мы могли бы провести вместе всю ночь?»
— Что с вами? Почему вы дрожите? Мне кажется, вы нездоровы.
Пересохшая река.
— Отсюда я пойду одна. Большое спасибо, Габриэль, Почему не прорастет слово?
— Прощайте, Габриэль.
Почему не хочет прорасти слово?
— Дайте мне руку. Прощайте.
— Госпож… (Нет, не это слово должно было прорасти.)
— Меня зовут Виктория.
— Ну и дрались же коты этой ночью. Спать не давали.
Наш падре-наставник — величают его Дщери Марии, особы пугливые и восторженные. Многие смеются над этим обращением и над тем, к кому оно относится; падре-наставник вызывает неприязнь у многих, но есть и такие, кто готов за него отдать жизнь.
Речь идет о пресвитере доне Хосе Мариа Исласе, священнослужителе прихода и руководителе конгрегации Дщерей Марин Непорочной; руководство конгрегацией укрепляет его влияние, его уважают и боятся даже те, кто относится к числу его недоброжелателей. Достаточно ему взглянуть краем глаза или сделать едва заметный Жест, чтобы любая из Дщерей Марии его поняла и беспрекословно ему подчинилась. Одно его слово может заставить подвластную ему душу лишиться чувств или погрузиться в бездну отчаяния.
При взгляде на падре Исласа трудно предположить, что он обладает столь внушительной силой: он выглядит весьма жалким, — у него такой вид, словно он болен, страдает невралгией и в любой момент может потерять сознание. У него подергиваются веки и губы — это подергивание усиливается, когда он начинает пли заканчивает проповедь: тяжелая операция, в которой принимают участие нахмуренные брови, вздувшаяся вена посреди лба, тончайшие крылья острого длинного носа, вздрагивающие уши. Когда же он молчит, то беспрерывно двигает челюстями. Не только его лицо, но и все движения нервные, угловатые, чуждые теплоты. Его голос пронзителен и беден интонациями, однако набожные поклонницы находят и в его голосе сверхчеловеческое очарование.
Святость падре Исласа — неоспорима для Дщерей Марии и доброй части прихожан, и любой симптом сомнения вызывает их гнев. Нот числа чудесам, ставшим источником распространения веры в округе и гордостью даже для неверующих; его сбывшиеся пророчества и исцеления, его вездесущее проникновение во все тайны, помощь нуждающимся и оделение их пищей, устройство самых запутанных дел, возврат, казалось, навсегда потерянных вещей, угадывание чужих мыслей, а также мудрейшие советы.
Рискуя вызвать протесты и прослыть завистником, сеньор священник Мартинес пытается противодействовать этому легковерию; противодействует неутомимо, но осмотрительно, перенося факты в область абстракции и напоминая о предостережениях церкви относительно святости того пли иного лица, а также подлинности тех или иных местных чудес, зачастую являющихся плодом экзальтированного народного воображения.
По совести, дон Дионисио считает падре Исласа достойным священнослужителем, хотя и одержимым излишней суровостью, и, усчитывая последнее, весьма осторожно пытается смягчить его, однако пока еще не достиг сколь-нибудь заметных успехов. «Кроме того, — думает дон Дионисио, — суровость очищает приходскую жизнь, являясь постоянным сигналом тревоги, что до сих пор нам было полезно, — она не дает увянуть добродетельной Надежде!» И дон Дионисио дорожит падре Исласом как исповедником, что само по себе служит еще одним подтверждением святости диакона.
Разумеется, дон Дионисио был бы рад, если бы в душе его коллеги засияло милосердие; частенько приходский священник чувствует себя ответственным за чрезмерную суровость падре Чемиты, как он его по-дружески называет, и подчас приступы мизантропии у диакона тревожат дона Дионисио.
Падре Ислас держится замкнуто — даже со своим приходским священником и другом. Бывают дни, когда он совершенно перестает разговаривать и, похоже, находится во власти глухого раздражения: движение его челюстей учащается; в такие дни он запирается дома и никого не хочет видеть.
Из года в год дон Дионисио откладывает консультации с высшими сановниками церкви по поводу своего диакона. «Пока не будет более серьезных оснований», — оправдывает он свое промедление; и так уже тянется добрых два десятка лет.
«Есть какое-то сходство характеров и склонностей между сеньором приходским священником и падре Исласом», — рассуждает про себя падре Рейес; для него вполне ясно, почему один доверяет другому: цель обоих — держать приход в страхе и повиновении, никому не спуская самого ничтожного проступка.
За время своей жизни в селении падре Рейес с помощью исповедей довольно точно определил размеры влияния падре-наставника, чьей чрезмерной строгости он не одобряет, однако из осторожности остерегается делать какие-либо замечания. Когда он был уверен в том, что располагает доверием приходского священника, он хотел было косвенно нейтрализовать это влияние, которое даже у взрослых порой отзывалось навязчивыми идеями и мучило их необоснованными страхами; падре Рейес подружился с детьми, подростков вовлек в приходский хор, а потом собирался несколько проветрить и женские души. Однако ему приходится действовать не спеша и крайне осторожно, ведь его коллега падре Ислас пользовался полным доверием у главы прихода, хоть между ними и имелись несогласия.
Чего бы только не дал падре Рейес, чтобы рассеять смехом вечную печаль селения, сделать прихожан более общительными и придать их набожности хоть немного веселья! Однако и он не мог не чувствовать на себе воздействие сурового падре Исласа, и частенько его охватывали сомнения — не прав ли в конце концов падре Ислас, стремясь обеспечить чистоту жизни строжайшим сверх контролем над человеческими помыслами; эти сомнения несколько сдерживают его обновительные идеи, и он даже принял на себя обязанности церковного надзирателя округи, надеясь, что это даст ему возможность пресекать любое зло в зародыше.
Следствием злосчастной придирчивости падре Исласа был случай с Луисом Гонсагой Пересом; он подогрел оппозиционные настроения падре Рейеса и внушил ему, что необходимо всерьез поговорить с приходским священником. По мнению падре Рейеса, все произошло из-за больной совести несчастного, и одолевающие бывшего семинариста мании, навязчивые страхи, тик, безусловно, возникли из-за жестокого обращения с ним падре Исласа.