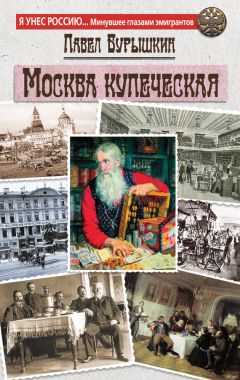Из распахнувшегося окна дома выглянул Горький с полотенцем в руке:
— Так вы в дом зайдете или передумали?
— Ах, подожди, Алеша, — отмахнулась Андреева, — мы сейчас. Лучше самовар поставь, — опустилась она на ступеньку у двери.
— Я, Леонид Борисович, собиралась написать. Но… вы ж сами понимаете, — многозначительно указала она головой в сторону дома, но по скептическому выражению лица «Никитича» поняла, что названная причина не показалась тому весомой. Замолчала, не зная, как продолжить разговор. Нужно было хоть что-то сказать.
— А вы знаете, — вдруг оживилась она, — что Савва тут учудил? Застраховал свою жизнь на сто тысяч рублей…
В глазах Красина появился интерес.
— …а полис на предъявителя отдал мне.
Красин оживился.
— Беспокоится все, что не сладится у нас с Алешей, и я умру под забором… — сказала она с легкой вопросительной интонацией.
Красин чуть прищурился.
— Чудак-человек… — отвела она глаза и отбросила травинку. — Кстати, Алеша про полис ничего не знает, — поторопилась предупредить собеседника, по лицу которого скользнула улыбка.
— И правильно! Зачем ему знать? Разволнуется только. Писателю спокойствие нужно.
Из дома послышался кашель.
— Он что же, впрямь сильно болен?
— Нет, что вы! Здоровье у Алеши отменное. Нервы только сильно расшатаны…
— Я, Мария Федоровна, про Морозова спросил.
— Савва? — чуть смутившись, уточнила Андреева. — Ну, он — человек необычный, в поступках иногда не предсказуемый, — помедлила, решая, стоит ли говорить больше. — Знаете, он ведь с собой пытался покончить, когда я к Алеше ушла.
— Не знал, — удивился Красин. — И что ж?
— Да, было такое… — По лицу Марии Федоровны скользнула тень воспоминания, в которой торжества было чуть больше, чем виноватой грусти. — Я записку нашла случайно, из кармана у него выпала. Написал: «В моей смерти прошу никого не винить». И больше ничего. Ни подписи, ни даты. Вот так — коротко и страшно!
Она взглянула на Красина, надеясь увидеть сопереживание, но нашла лишь напряженное внимание.
— Подняла, прочитала, а он смутился, и попытался отнять, но я не отдала. Обещала порвать, но оставила на память. Не каждый же день люди из-за тебя убить себя хотят! — попыталась пошутить она. — Ведь правда?
— Правда, — согласился Красин, сдвигая шляпу на затылок. — И где сейчас эта записка? — спросил он тихо с простодушной улыбкой.
— Записка… — Андреева таинственно улыбнулась и, бросив взгляд на открытое окно, продолжила шепотом:
— В томике Байрона. На квартире в Москве. Алеша не знает…
— И правильно, что не знает, — наклонившись к собеседнице, тоже шепотом сказал Красин. — И вообще, не надо вам ее у себя хранить, — глазами указал он на дом и покачал головой. — Мой совет, вернетесь в Москву, отдайте ее какому-нибудь надежному человеку. А хотите, я попрошу кого-нибудь из товарищей к вам на квартиру заглянуть, чтоб, не дай бог…
— Да Алеша, вроде, про случай тот знает, — попыталась возразить она.
— У писателей, Мария Федоровна, такая фантазия, такое воображение! Сами же про рубец сегодня рассказывали. Писателей беречь надо от волнений. А пойдемте-ка в дом, — протянул он руку, помогая Андреевой подняться. — Чайку попьем.
— Пойдемте Я все поняла, Леонид Борисович, и постараюсь упросить Алешу хоть телеграмму Морозову отбить с вопросом о здоровье. Дело, конечно, важнее собственного настроения. Так что не беспокойтесь.
Они вошли в дом. На столе, покрытом кружевной скатертью, уже стоял самовар, в вазе — печенье, покрытое белой глазурью, напоминавшей о нездешних зимних холодах. Горький сидел, чуть ссутулившись, с видимым удовольствием отхлебывая чай из стакана в серебряном подстаканнике. Рядом на столе лежала открытая книга.
— Чаевничаете уже, Алексей Максимович? А мы с Марией Федоровной о мелочах заболтались.
Горький вопросительно посмотрел на гостя.
— Мелочи… — махнул рукой Красин — не стоят и того, чтобы на них внимание обращать, тем более вам пересказывать. Только голову забивать.
— А вот некоторые великие люди с вами не согласны, дорогой Леонид Борисович — торжествующим тоном сказал Горький, перелистывая страницы назад.
Андреева протянула чашку Красину:
— Осторожно, Леонид Борисович, очень горячий.
— Вот послушайте, что думают по данному вопросу великие, — нашел Горький нужное место в книге:
«Давно известно — мелочи как раз сильнее всего долбят и точат нас…»
— Байрон… — одновременно выдохнули Андреева и Красин.
— Да, Байрон! — пробасил Горький, довольный произведенным эффектом.
— Откуда здесь эта книга, Алеша!? — Андреева вскочив из-за стола, выхватила у него из рук томик и, отойдя к окну, принялась быстро листать.
— А я с собой из дома взял почитать, в саквояж бросил, да и забыл. За свежим носовым платком полез и вот увидел. Великий все-таки Байрон поэт! Властитель дум современников… — обхватив подстаканник обеими руками, начал рассуждать он, отпивая чай маленькими глоточками.
Красин молча смотрел на спину Андреевой. Та застыла у окна, словно не решаясь повернуться, потом, не глядя на Красина, подошла к трюмо, положила книгу, вернулась к столу, вскинула глаза на гостя и… едва заметно кивнула.
— … а Байрон — забияка и драчун, не нашел ничего лучшего… — продолжал говорить Горький…
Мария Федоровна чай не пила, делала вид, что слушает Горького, а сама то и дело посматривала на Красина. Тот, уставившись в одну точку, напряженно думал о чем-то, машинально помешивая ложечкой чай.
«Как охотник, увидевший, наконец, добычу, по следу которой долго шел», — вдруг подумала она.
Красин встрепенулся и испытующе посмотрел на Марию Федоровну. Их взгляды встретились.
«Что вы на меня так смотрите, будто я разбойник какой? Вы ведь тоже знаете, что Морозов больше ничего давать не будет. А момент сейчас политический острый. Партии деньги нужны!» — прочитала его мысли Мария Федоровна и опустила глаза…
…Прощаясь, Красин был весел. Пожал руку Горькому, поцеловал Андреевой. Уже в дверях остановился:
— Совсем забыл, — хлопнул он ладонью себя по лбу. — В дорогу мне Байрона не дадите? А то после великолепных рассуждений Алексея Максимовича очень хочется поэта перечитать.
— Не возражаешь, Алеша? — похолодела Мария Федоровна, до последнего момента еще надеявшаяся, что поняла все не так.
— Вернуть только не забудьте, договорились? — недовольно пробасил Горький.
— Не сомневайтесь, дорогой Алексей Максимович! — заулыбался Красин. — Верну, все верну, уж не беспокойтесь…
* * *
Мерцающая россыпь звезд обрамляла холодный ореол луны, безразлично взиравшей на одинокую женщину, сидящую на ступеньках дома.
— Прости… Прости… Прости… — шептала Андреева, раскачиваясь из стороны в сторону…
* * *
— Я просто не понимаю, что мне делать? — Зинаида встревожено глядела на сидящего напротив нее доктора. — Он — то напряжен, будто ждет неведомого удара, вздрагивает от каждого резкого звука, а то на него вдруг нападает безудержное веселье.[39] Что-то вспомнит, или подумает о чем, и начинает смеяться. А смеется он, сами знаете, так, что хочешь — не хочешь, в ответ весь дом ходуном ходит. Очень заразительный Савва человек В эти выходные вдруг сорвался с Тимошей в Покровское — захотел на лошадях покататься. В лесу снег еще до конца не сошел, а он… Да разве его остановишь? А два дня назад вдруг приходит ко мне в будуар и зовет — идем, мол, погуляем немного до храма Вознесения и — обратно.
— И что ж, такого, Зинаида Григорьевна?
— В общем-то ничего, Николай Николаевич. Если б не два часа ночи.
— Так что, пошли? — сочувственно улыбнулся доктор.
— А что делать прикажете, Николай Николаевич? Пошла. Только от этого еще хуже стало. Сегодня узнала, что новые слухи по Москве ползут: будто Савва не в себе, да и по улице с ним не случайно гуляют по ночам, чтобы его не встретил никто…
* * *
Зинаида Григорьевна вошла в кабинет Саввы, держа в руках несколько газет.
— Савва Ты читал, что газеты пишут?
Морозов, поднял глаза от шахматной доски и, нахмурившись, указав жене взглядом на Тимошу, размышлявшего над очередным ходом.
— Зина, с каких это пор ты к газеткам пристрастилась? Бумажные страсти мне не интересны.
— Но это, право, забавно, Савва Пишут, что ты отстранен от дел в силу своей врожденной склонности к беспорядочности восприятия жизни. Говоря яснее, в силу своего полупомешательства, случившегося от избытка работы и дурной наследственности. Каково? Будто держат тебя взаперти, а ты — ну, совсем не в себе. [40]
— Зина… — Савва поморщился. — А писем не было?
— Не было писем. Зачем ты им теперь? Без денег ты для них — мыльный пузырь.