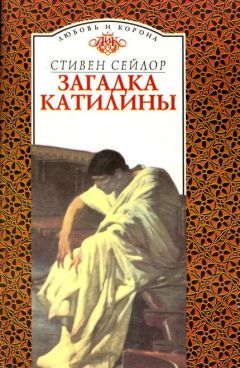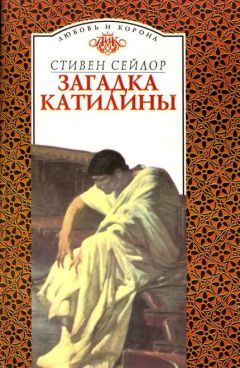— Всякое единовластие переходит в деспотизм, а деспотизм, даже самый справедливый, все равно только всеобщая тюрьма. В этой тюрьме люди теряют благородство устремлений и находятся в плену низких страстей. Прежде всего, их одолевают вожделения богатства и удовольствий, которые обольщают все большее число душ и делают свободнорожденных ничтожными рабами. Что же касается твоего намерения описать победы в Галлии и Испании, то твои сподвижники вернее меня посоветуют тебе, каким образом следует составить такое сложное описание, о наилучший император.
Наступила минута, когда Цезарь снял маску и заговорил откровенно.
— Катулл, ты не стремишься быть моим другом?
Веронец молчал, в этом молчании был его ответ. Цезарь посмотрел на него с любопытством.
— У меня есть сведения, что ты и твои друзья-сообщники хотели противодействовать мне во время и после моего консульства, — продолжал Цезарь, — и считали, что не следует останавливаться перед любым насилием… вплоть до убийства. Так ли это?
В сознании Катулла вихрем промелькнули Валерий Катон, Корнифиций, Кальв… и удрученный горем старый отец.
— Нет, Цезарь! — воскликнул он. — Это ложь!
— Я так и думал, — спокойно сказал Цезарь, — хотя о заговоре мне написал один из вас… не могу сейчас вспомнить его имени. Но я не придал никакого значения доносу. Счел попытку молодых поэтов организовать заговор против правительства… имею в виду себя, Помпея и еще некоторых лиц высокого общественного положения… да, я счел такую попытку заблуждением, а не преступным умыслом, требующим расследования. То же относится и к твоим остроумным, но, поверь мне, несправедливым эпиграммам. Можешь по приезде в Рим рассказать о моих сожалениях всем знакомым.
Цезарь говорил с отеческой лаской в голосе. Катулл вспомнил одну из порочащих его характеристик, распространяемых оптиматами: «Жадный до денег, он еще более жаден до славы».
— Во имя твоего прекрасного дарования и моей дружбы с твоим отцом я хочу проявить снисходительность к тебе и твоим приятелям. Надеюсь, ваши взгляды изменятся в более зрелом возрасте. Впрочем, один молодой муниципал, по имени Саллюстий Крисп[165], пишет мне письма, в которых клянется в бескорыстной преданности, находя, что моя деятельность ведет к восстановлению идеалов истинной демократии. Если бы ты знал, насколько мне радостно читать эти письма, потому что все предпринимаемое мной делается только ради возвышения государства и блага народа.
— О, я желал бы в этом не сомневаться! — с натянутой патетикой воскликнул Катулл.
— Для себя я не ищу ничего, кроме самого скромного признания моих заслуг согражданами, — продолжал император. — Если ты убежден теперь в моей правоте, то будем считать, что всякие недоразумения между нами улажены, и не осталось никаких недомолвок.
Они вышли на всеобщее обозрение и пожали друг другу руки: Катулл — почтительнейшим образом, Цезарь — с добродушной улыбкой. Катулл попятился к выходу, а Цезарь направился в круг поклонников и матрон.
Выйдя из дома Аквилия, Катулл застонал сквозь зубы. Самым тяжелым и унизительным впечатлением был не произошедший только что опасный разговор с императором, не наглая шутка Мамурры, не подобострастие веронской знати и даже не благоговение перед Цезарем умного отца. Самым омерзительным было то, что он успел заметить, выходя из шумного атрия.
Подрагивая мускулистой ляжкой, напомаженный ретивый жеребец Мамурра любезничал с молоденькой женщиной, отвечавшей на его ухаживания кокетливыми ужимками и встречавшей его раздевающий взгляд таким же бесстыдным взглядом. Это была Валерия Минор, дочь и жена добропорядочных веронцев, это была родная сестра Катулла.
Когда Цезарь подошел к своим соратникам, легат Публий, сын Марка Красса, спросил:
— Каково твое мнение о Катулле? Надеюсь, ты нашел в нем своего пылкого почитателя? — Публий Красс спрашивал не без иронии.
— В его стихах гораздо больше прелести, чем в его разговоре, — сказал Цезарь. — Как ни печально, но таковы многие поэты. Видимо, они всецело поглощены своими поэтическими замыслами и потому часто ненаходчивы и скучны. Катулл тоже довольно угрюм. Во всяком случае, его почтенный отец неизмеримо приятней и интересней в общении.
Тем же вечером Мамурра встречался у одного веронского всадника с вострушкой Валерией. Ее муж и отец знали об этом, но не решились им помешать. Старик Катулл счел излишне смелое поведение дочери пустяком и старался убедить в том зятя. «Ведь теперь все молодые вертихвостки стали вести себя подобным образом!» — говорил он, пожимая плечами. Впрочем, нельзя все-таки думать, что его не раздосадовало бесстыдство Валерии. Он волновался, не зная, как поступит бешеный Гай, узнав об оскорблении фамильной чести. Но, слава богам всемогущим, и он проявил выдержку. Жена рассказала, как, придя домой, Гай, злой и бледный, тотчас сбросил нарядную тогу и умчался на Сирмион.
— Ну, ничего, — бормотал старик, — поразмыслит в тишине и оценит события сегодняшнего дня. А насчет потаскухи Валерии — уж постараемся как-нибудь замять! Пусть растяпа муженек запрет ее покрепче!
Старик был очень доволен милостивым отношением Цезаря к Гаю. Но жена недоверчиво качала головой: она не верила в преображение празднолюбивого и развратного сына. Впрочем, на ее суеверия и предчувствия не следовало обращать внимания.
Несколько дней Гай Катулл нестерпимо страдал, упрекая себя в трусости и рабском смирении. Чем он может ответить на бесчестие? Убить Мамурру, любимца всесильного императора? Но поединок между ними ни за что не допустят, да и скорее всего Мамурра убьет его. Обратиться с жалобой к самому Цезарю? Он такой же распутник, как и все его прихвостни. Интрижка Мамур-ры для них только повод поупражняться в своем солдатском остроумии.
Нет, все-таки у него есть средство отомстить врагам, каким бы недосягаемо высоким не было их положение в республике. Берегитесь, славные завоеватели! Вы еще вспомните Катулла, когда почувствуете разящие удары его беспощадных стрел-инвектив[166]!
От бессильной ярости и тоски его исцеляли горы. Он уходил с рассветом, карабкался по обрывистым склонам, бродил среди темных сосен и желтеющих дубов и возвращался, когда солнце опускалось за лесистые вершины. Он ел в одиночестве, безразлично глядел мимо грустной Гебы, потом закрывался в своей комнате и раскладывал перед собой письма.
Странно, но Кальв и Непот молчали, а он сам из-за своей глупой щепетильности не решался написать им первый, боясь показаться навязчивым, старающимся привлечь к себе внимание стихоплетом.
Зато роскошные послания Гортензия Гортала по-прежнему касались поэзии и неизменно восхваляемых, надоевших павлинов. Гортензий благодарил Катулла за посвященную ему «Беренику» и предрекал ей большой успех.
«Каллимах переведен восхитительно, — рассуждал Гортензий в письме, — это не просто удачное переложение на латинский александрийских одиннадцатистопников, это совершенно новая, чудесно звучащая песнь».
А вот перед Катуллом письмо Аллия. По содержанию оно делится на две части: первая — ответ на его просьбу рассказать о склоке между Клодией и Руфом, вторая — удивительное для весельчака повествование о его несчастной любви.
Подробности скандального процесса заключали в себе следующее: крайне наглое поведение на суде Руфа, обвиненного в нарушении клятв, воровстве, подлоге и попытке отравить знатную матрону, и великолепная речь, произнесенная в его защиту Марком Туллием Цицероном. Речь Цицерона, как всегда пышная и тенденциозная, изображала Руфа наивным мальчиком, опутанным колдовскими сетями «Медеи палатинских садов», известной всему Риму, «чудовищем разврата», — так великий оратор называл женщину, в которую был когда-то влюблен.
Под шум судебного разбирательства Руф еще раз сменил политическую маску и, покинув цезарианцев, снова перебежал в лагерь оптиматов.
«Сам Валерий Катон принял его в дружеские объятия, — продолжал Аллий. — Корнифиций готов простить его „ошибку“, я тоже, только Кальв глядит недоверчиво. Надо сказать, Кальв сейчас слишком расстроен: бедная Квинтилия вряд ли доживет до зимы. Может быть, и ты, Катулл, готов примириться с Руфом?»
Ирония Аллия исчезла, когда он перешел ко второй части письма, к своим бедам. Дело было в том, что роскошный циник и кутила Аллий влюбился в юную девушку, дочь сенатора Аврункулея. По происхождению и богатству Луций Манлий Торкват вполне подходил в зятья надменному патрицию, но брак не слаживался. Аллий не распространялся о причинах, мешавших его счастью, но Катулл догадывался. Суровый Аврункулей не хотел отдавать свою семнадцатилетнюю Винию потертому хлыщу, прославившемуся оргиями и распутством. Сенатор придерживался нравов праведной старины и находился в близких отношениях с вождем оптиматов Марком Порцием Катоном. Аллий намекнул еще кое о чем: его отец и сенатор Аврункулей не вполне договорились о финансовой стороне брачного соглашения.