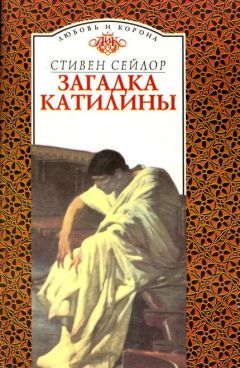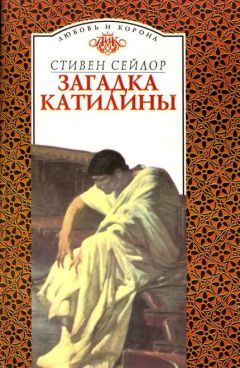В маленькой побеленной комнате, придвинув жаровню и положив на колени вощеную табличку, сидел поэт Катулл, томился неугасающей любовью к развратной римской красавице и царапал костяной палочкой столбцы строк. Пустые поля, лесистые холмы, размытые дороги и серые завесы дождей отделяли его от мира. В глухой тишине его тревожили только прилетающие из Рима упреки друзей. Может быть, ему не следует ждать этих писем? Читая их, Катулл начинал представляться самому себе заброшенным, несчастным паралитиком: вот у него уже разлагаются неподвижные конечности, черви копошатся в пролежнях, и умом овладевает тупое безразличие близкой смерти.
А там, в грохочущей междоусобицами и празднествами столице, бьется лихорадочный пульс литературной борьбы. Там обсуждают поэму Лукреция, расхваливают мальчишку Фурия, смакуют элегии Тицида и Кальва, интересуются историческими трудами Непота и, наверное, совсем забыли о нем. Разве есть блаженство в восхищенных кликах глупцов? Разумеется, нет, но одобрение друзей ему дорого и необходимо.
Однажды серым дождливым утром Катулл почувствовал, что ему надоел тихий Сирмион, скучная возня деревенской жизни и однообразие окрестностей. Как он мог в восторженном оцепенении часами любоваться синевой гор и озера! Пожалуй, еще немного — и он станет изображать стихами годовой цикл сельских работ. Не хватает ему превратиться в подражателя древнего Гесиода[168]… Никогда! Ему не терпится обнять Кальва, побеседовать с Непотом, уязвить Фурия, расчихвостить бездарных цесиев и суффенов[169] и встретиться со счастливым Аллием.
И все-таки Катулл не решался ехать в Рим.
Отец, навещая его, рассказывал о важных новостях: о том, что Цезарь удачно усмирил взбунтовавшихся варваров; что в этом году, по всем приметам, ожидается холодная зима и следует заготовить побольше топлива для печей и жаровен; что в Риме, говорят, не хватает хлеба и обвиняют в нерадивой организации хлебных поставок Помпея; что ближайший сподвижник Цезаря красавец Мамурра купил неподалеку поместье стоимостью в четыре миллиона сестерциев и, наконец, что ему, уважаемому муниципалу Валерию Катуллу, деловитому и оборотистому старику, удалось совершить выгодную сделку — дешево перекупить сто пятьдесят тысяч модиев пшеницы и спешно отправить в Рим, пока там держатся высокие цены на хлеб.
Отец смотрел на Гая умными глазами и все еще не предлагал ему собираться в дорогу. Ждал, когда он сам доспеет. Выжидающе помолчав, они расставались. Гай провожал отца, возвращался в свою комнату, ложился со свитком греческих стихов и слушал, как волны бьют о каменистые бока Сирмиона.
Этой ночью Катулл долго читал Сафо, шепотом произнося слова не нашедшей ответа, горькой любви. Чувствуя, как сердце его созвучно стенаниям Сафо, он печально задумался. Когда он в одиночестве читает стихи великой лесбиянки, огненнострастного Асклепиада Самосского или тоскующего Мелеагра, то нередко плачет от сладкой грусти и поэтического восторга.
Дождь лил не прекращаясь, ветки олив скрипели и царапали стену дома. Катулл положил книгу на столик, опустил голову и заснул.
Проснулся он от едва слышного шороха. Он открыл глаза, но не заметил ничего особенного, кроме одного: куда-то исчезла книга. Засыпая, он забыл погасить светильник — мигающий желтый огонек тускло освещал комнату. Может быть, свиток случайно скатился со стола? На полу его тоже не оказалось. Что за чудеса?! А если он сам убрал книгу в шкаф и забыл об этом?..
Он поднялся и подошел к шкафу… стихов Сафо не было на месте. Где же книга? Да оградят его от козней злых духов святые Пенаты[170]!
Взволнованный и расстроенный, Катулл хотел позвать рабов, но передумал и опять лег в постель. И тут он увидел изящную, миниатюрную вазу с букетом только что срезанных роз. Она стояла на столике, на месте исчезнувшего свитка. Ваза была старинная, греческая, с характерным черно-красным рисунком. Откуда она взялась? И где в начале зимы цветут такие чудесные розы? Не сходит ли он с ума? Вдруг его осенило: он спит. Да, да, конечно, спит! Ему только показалось, что он проснулся, на самом деле все это происходит с ним во сне…
Катулл успокоился, однако что-то необъяснимо притягательное чудилось ему в потрескавшейся от времени вазе. Он присмотрелся: кроме фигурок танцующих и играющих на кифарах девушек, ее опоясывала надпись: «Лесбос, Митилены, в мастерской Софрона».
Катулл старался уяснить связь между исчезновением книги и появлением старинной вазы. Очевидность такой, хотя и умозрительной, но логической связи никак не приходила ему в голову. И все-таки его скованное сном сознание победило. Катулл понял: исчез свиток со стихами уроженки города Митилены, а вместо стихов он видит вещь из того же города.
«Есть ли здесь особое предуказание или это просто причуды Морфея[171]? — подумал Катулл. — Пожалуй, я сейчас проснусь и увижу, что никакой вазы нет, а на столике лежит книга…»
Катулл открыл глаза и приподнялся на локте. Его поразила тишина. Дождь перестал лить, ветер стих, прекратился и мерный плеск волн. Светильник погас, в комнату из узенького оконца проникал свет полной луны. Катулл сразу увидел с облегчением — вазы нет на столе… но в то же мгновение он вздрогнул, чувствуя растерянность и тревогу, — на столе не оказалось и книги.
Катулл помедлил, потом нерешительно сел, разыскивая на ощупь кресало, чтобы выбить огня. Он так и не мог решить: проснулся он или продолжает спать?
— Обернись, взгляни на меня… — донесся до его слуха едва различимый шелест, словно не голос, а прохладное дуновение шепнуло эти слова по-гречески с архаичным иолийским произношением. Катулл слышал такое наречие на Эгейских островах. Он повернулся и увидел в углу женскую фигуру в белых одеждах. Одной рукой она держала вазу, другой, кажется, исчезнувший свиток…
Он не испытал страха. Ведь он по-прежнему спит и представляет прекрасную Клодию, чей образ не раз являлся ему во сне и в роскошных нарядах, и в невыносимом обольщении наготы. Почему она шепчет так невнятно? Он застонал от тоски и желания, вглядываясь в белую неподвижную фигуру.
Постепенно в сердце его зашевелилось сомнение. Стоявшая перед ним женщина была ниже Клодии ростом, из-под полупрозрачного покрывала виднелись черные, как смоль, косы. Лунный свет, прерываемый тенью пробегающих туч, изменчиво дрожал на ее мертвенно бледном лице. Значит, он не спит, духи преисподней нарушили его сон, и перед ним призрак.
— Ты так часто взывал ко мне, — продолжала еле слышно шептать неизвестная, — что я упросила ужасных стражей Аида выпустить меня на землю и прилетела к тебе…
— Кто же ты? — прохрипел Катулл и, тотчас догадавшись, вскрикнул:
— Я узнал тебя! Ты — Сафо!
— Да, я Сафо из Митилен, — говорил призрак великой поэтессы, — погибшая из-за любви к жениху своей дочери Клеиды. Как неразумно я поступила! Только став бестелесной тенью и пять веков протомившись в долине вечности, окаймленной траурными кипарисами, я получила известие о том, что мой истинный возлюбленный, предназначенный мне в высших сферах судьбы, совсем другой юноша, а не прекрасный, но бездушный Фаон. И вот ты родился на земле Италии, у подножья северных гор, далеко от моего острова…
— Бедная Сафо, — сказал Катулл, опускаясь перед ней на колени, — Меня постигло несчастье, близкое твоему. Я, как и ты, безумно полюбил, надеясь найти в оболочке божественной красоты твою возвышенную и верную душу, но жестоко ошибся. Дряхлые Парки спутали время наших жизней, и нас разделили пять невозвратимых столетий. Я поэт и воспевал женщину, которую люблю, прославившими меня стихами. Но я не мог забыть о тебе, жрица Аполлона и Афродиты, в твою честь я назвал римлянку именем Лесбии.
— Благодарю тебя… Как жаль, что в груди Фаона билось не твое горячее сердце. А теперь, когда я увидела тебя, мне бы не нужна была и его внешность. О, какая тоска! — воскликнула бестелесная Сафо и, заломив руки, откинулась к стене. Катулл глядел сквозь нее на щербины в каменной кладке. Чтобы немного утешить великую поэтессу, он прочитал латинский перевод ее знаменитого стихотворения: «Кажется мне богоравным или — сказать не грех, — всех богов счастливей…»
— Я не знаю твоего языка, хотя он отдаленно напоминает греческий, — сказала Сафо. — Я не понимаю значения слов, но чувствую певучесть стихов и правильность размера. Мне отрадна мысль о том, что если будет утерян список подлинника, то, возможно, останется достойный его перевод.
Катулл смотрел на призрак Сафо, чувствуя, как тщетны его нежность и жалость. И все-таки он, поднявшись, простер к ней руки.
Сафо пугливо отстранилась:
— Разве возможны объятия между живым человеком и печальной тенью? Вот свиток, я взяла его, чтобы посмотреть свои стихи. Я осталась довольна этой книгой, хотя в некоторых местах допущены ошибки: переписчики всегда были невнимательны, — Сафо осторожно положила книгу на столик.