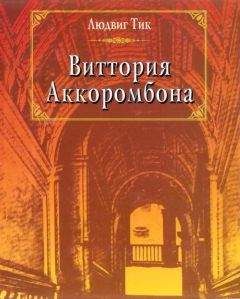Дворянству не хватало лишь предводителя, им стал яростный и неуемный Луиджи Орсини. Старые бароны и графы, даже многие из духовенства поддержали его. Луиджи неистовствовал: уже на следующий день от ран скончались его брат Раймунд и шурин Савелли. Их и молодого Рустикуччи похоронили одновременно, с большой пышностью, под шум и возмущенные крики толпы. Во дворце Луиджи собрались после похорон молодые дворяне из разных семей. Молодая супруга Луиджи напрасно умоляла его:
— Ты обещал мне, — говорила она, — отказаться от насилия, смягчить свой буйный нрав. Я поверила тебе и вышла за тебя замуж. А теперь исполняются самые мрачные предсказания моих подруг: ты никогда не изменишься. Заклинаю тебя, не ввязывайся в эти ужасные дела, останься со мной, отговори своих друзей от мести, ведь твой голос так много значит для них. К чему приведет этот мятеж? А если ты погибнешь? Если правительство одержит победу и сошлет тебя, или посадит в тюрьму, или даже…
— Как? — закричал он в диком гневе. — Нам, князьям и баронам, терпеть, чтобы подлые, трусливые наемники безнаказанно убивали нас? Забивали нас, как скот? Даже если меня разорвут на куски, если папа, кардиналы и Рим сгинут, мы должны отомстить. Неужели дойдет до того, что мы станем рабами стражников? Нам сидеть сложа руки? О, ты не Савелли, ты не та бесстрашная женщина, какой я тебя считал. И в чем здесь опасность? Вот увидишь, как легко, как быстро мы разобьем это отребье.
Он покинул жену. Душа его ликовала. Вероятно, он ждал лишь повода, чтобы дать выход ярости, бушующей в нем. Собравшиеся под предводительством Орсини молодые люди устремились на площади и в переулки, вооруженные мечами, кинжалами и ружьями. Сначала напали на часовых, которых баригелл собрал вокруг себя. Толкотня, крики, выстрелы, вопли раненых приводили в ужас горожан, с содроганием наблюдавших за резней из своих окон. Многие из дворян погибли, но главный пост баригелла был уничтожен. Он и его люди, оставшиеся в живых, пытались скрыться; их преследовали на улицах и в переулках, заставляя повернуть туда, где их ожидал покрытый кровью Луиджи. Здесь каждого настигнутого стражника ждала жестокая расправа.
— Какая радость, — кричал в упоении Луиджи своим спутникам, — какое веселье, должно быть, царило в Париже десять лет назад, когда там праздновали Варфоломеевскую ночь:{120} каждый нападал на проклятых еретиков и заливал улицы их кровью.
По всему городу, и по ту, и по эту сторону Тибра, шла охота на стражников; не было улицы, где не произошло бы убийство. Многих прохожих, оказавшихся случайно поблизости, тоже настигла смерть, потому что разъяренные бунтовщики не задавали вопросов и не ждали ответа, они каждого встречного принимали за переодетого врага. Группы мятежников, встречаясь, жали друг другу руки, обнимались и торжествовали, радуясь содеянному. Повсюду лежали трупы или умирающие, корчившиеся от боли и пытавшиеся прикрыть рукой зияющие раны. И ни в ком не было сочувствия.
Браччиано наблюдал за бесчинствами из своего окна, строго-настрого запретив своим людям выходить из дома и участвовать в этом празднике смерти.
Когда Луиджи обежал уже весь город и отделился от своих спутников, он заметил, как еще один стражник проскользнул в небольшой дом, чтобы спрятаться там. Жилье показалось ему знакомым, но он не придал этому значения и устремился вслед за убегающим в одну из внутренних комнат. Луиджи мчался за ним с кинжалом в руке. Дрожа от страха, стражник хотел заползти под кровать, но Орсини уже настиг его и вонзил кинжал ему в грудь. Фонтан крови, сдавленный хрип — и враг падает замертво. Луиджи огляделся и заметил на кровати странное существо, вид которого привел его в ужас, хотя он никогда не ведал страха. Это была женщина, показавшаяся ему призраком. Черный взгляд глубоко посаженных глаз пронизывал его насквозь; серые, как пепел, щеки впали, седые нечесаные пряди волос свисали на грудь, шею и худые руки.
— Боже мой! — воскликнул Луиджи и всплеснул руками. — Только сейчас я узнал вас, вы — донна Юлия.
— А почему бы и нет? — раздался хриплый голос. — Должен же кто-то играть и эту роль.
— Бедняга! — воскликнул злорадно Луиджи. — Так вот что случилось с вами? Где же теперь ваше счастье? Где поклонники, восхищавшиеся здесь, в этом доме, стихами вашей дочери? Не правда ли, ее брак с Перетти закончился великолепно? Ваш ум сотворил чудеса? Вот во что превратилась гордая, властная женщина, отважившаяся бросить мне тогда в лицо столь суровые слова? Прекрасные творения вашей заносчивости принесли жалкие плоды.
— Одно из ваших прекрасных творений, — ответила она, — вы оставили мне здесь. — Она показала на труп. — Ваш конец еще не пришел, но поверьте мне, настанет час, когда ваша жена будет рвать на себе волосы, сокрушаясь о своей и вашей доле: в затхлой, тесной, мрачной тюрьме вы с позором закончите жизнь, и все ваши сограждане будут ликовать, что наконец негодяй получил по заслугам.
С содроганием покинул Луиджи провидицу, оглядев напоследок дом, в котором когда-то надеялся быть другом, а стал врагом юной девушки, где, впервые увидев Перетти, произнес слова проклятия, которое, однако, какие бы несчастья ни обрушивались на семью Аккоромбони, не исполнилось.
Правительство Рима было в большом затруднении. Старый папа, от природы мягкий и слабый человек, тяжело переживал случившееся. Он раскаивался в отданных им приказах, повлекших за собой кровавые события, и опасался худшего. Его пугали и пророчества коварных людей типа кардинала Фарнезе, высказавшего опасение, что весь Рим может возмутиться и принудить папу и правительство бежать, потому что и горожане, и жители окрестных сел угрожали примкнуть к партии дворян.
Монтальто, Фердинанд Медичи и Карл Борромео собрались в уединенной комнате, чтобы обсудить последние события.
— Дела плохи, — заявил Монтальто. — Святой отец слишком слаб, у него нет сил обуздать заносчивое дворянство. Он оплакивает приказ, отданный им недавно предводителю сбирров.
— И ругает себя, правительство, любимого сына — губернатора и всех нас, — подхватил Фердинанд. — Он уже подписал смертный приговор нескольким сбиррам, укрывшимся в его дворце, обвинив их как мятежников и смутьянов, самовольно выступивших против него и против города. Как это на руку высокомерным разнузданным молодым дворянам и черни — их владыка, перед которым они должны дрожать, открыто просит прощения, позорно жертвуя теми из своих слуг, вся вина которых лишь в неукоснительном следовании долгу.
— Нечего больше говорить об этом, — добавил Борромео. — Баригелл, храбрый, мужественный человек, бежал, спасаясь, за границу. Папа требует его выдачи, затем последует процесс: его обвинят в растрате денег, в тайной связи с предводителем банды, известным Антонио из Субиако, и предательстве, за что и отрубят голову. Вот так пытается папа успокоить взбунтовавшихся дворян, демонстрируя тем самым свою слабость. Но удовлетворят ли подобные искупительные жертвы распоясавшуюся молодежь? Мне кажется, нет. Мы сами показываем им, что они могут требовать всё больше и больше. Я опасаюсь худшего.
Между тем Виттория находилась в своей тюрьме. Защищенная толстыми стенами, она ничего не знала о боях на улицах, не слышала ни диких криков, ни выстрелов. Во время этого мятежа, когда губернатор и Вителли бесшумно принимали меры по защите крепости, на случай если восставшие отважатся на штурм, она сидела и писала стихи в своей тихой комнате. «Разве память о нем, — думала молодая женщина, — не рай и не Царство Небесное? Мой любимый стремится сюда — я постоянно чувствую это.
А разве я не счастлива? Враги затихли, их нападки отбиты, надсмотрщики приятны, учтивы, утонченны: каждое мое желание исполняется, как только я его выскажу. Бедный Тассо, как счастлива я, когда сравниваю свою судьбу с твоей.
Дважды злой демон возвращал тебя в ненавистную Феррару. Ты не слушал предостережений, тихий шепот твоего гения заглушала страсть. А теперь ты, благороднейший из всех, томишься в затхлой, мрачной, тесной камере{121}, брошенный на поругание своим сторожам. Когда ты размышляешь и творишь, тебя оглушают вопли сумасшедших, живущих рядом с тобой. Разве ты — безумец? Держать тебя в сумасшедшем доме! Наглые, слабоумные сумасброды на свободе высмеивают тебя, проходят мимо тюрьмы, издеваясь над тобой или сочувственно пожимая плечами. А бесчестный Малеспина издает твою поэму самовольно{122}, без спроса, лишая творца последней надежды, и посылает ее мне, прекрасную и грустную. Произведение обезображено, а болтун пишет мне, что так всё же лучше, чем если бы поэма потерялась совсем; герцог заставил издать ее. Бьянка тоже желала этого всей душой.
Нужна целая армия, чтобы уничтожить тиранию, суесловие, неприкрытое злорадство, раздавить весь этот змеиный клубок».