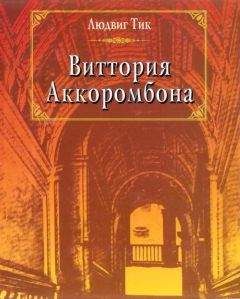Слухи об убийстве Вителли, мятеже Орсини, аресте Виттории Перетти и суде над ней проникли и за город. Народ, охотно сочиняющий небылицы и еще охотнее принимающий их на веру, связывал с этим тысячи невероятных зол и чудес. Говорили о колдовстве, яде, призраках и признании под пытками. В маленьком городке Тиволи, где часто бывала семья Аккоромбони, болтали об этом по-разному, судя по тому, как относились к обвиняемым: по-дружески или наоборот. Больше всего здесь была в ходу небылица, что Виттория с помощью любовного напитка околдовала герцога Браччиано, подобным же образом лишила рассудка молодого Луиджи Орсини, хотела отравить кардинала Фарнезе, заставила кого-то убить своего супруга Перетти, а теперь сидит под арестом вместе с матерью в крепости, и вскоре папа объявит их обеих ведьмами и прикажет сжечь.
Старый пастор Винченцо медленно брел по городу, размышляя над чудовищными и глупыми россказнями, о том, сколько он повидал и пережил на своем веку. «Всё, — говорил он себе, — похоже на Теверону. Там, наверху, она спокойна и приветлива, деревья и холмы отражаются в чистой воде. Но чем ближе она подходит к городу, тем все быстрее и быстрее бежит, чтобы обрушиться с ревом, шумом и проклятиями глубоко в пропасть. Как открыто и свободно они жили здесь, казались такими гордыми, уверенными и независимыми. Но слишком уж высоко захотели взлететь, вот и расшиблись!»
Пастор остановился перед изящным домиком, стоявшим в стороне от других. Он давно уже не проходил мимо этих стен, увитых плющом. Вдруг его внимание привлекли странные звуки: кто-то пел хриплым голосом, громко и пронзительно, строфы из народных песен, потом неожиданно всё стихло. Вскрики, всхлипы и снова пение, прерываемое громкими проклятиями. Потом Винченцо показалось, что кто-то упал, и сразу раздался чей-то визг, всхлипывания и многократные жалобною стоны. Окна были закрыты ставнями — старик не мог заглянуть внутрь. Он приблизился к двери, оказавшейся незапертой, и вошел с опаской в знакомый дом. Странные звуки повторились снова. Он нерешительно открыл дверь комнаты и вошел в полутемное помещение.
— Нужна ли кому-нибудь помощь? — произнес пастор робко, но отпрянул назад, вскрикнув от ужаса, — на полу распростерлось тело женщины, которую он принял бы за труп, если бы не беспокойные черные глаза, сверкнувшие на белом как мел, исхудавшем лице.
— Кто здесь? Какой смертный? — спросила женщина, медленно поднялась с пола и выпрямилась. Ее длинные седые волосы упали на лицо, губы растянулись в страшной улыбке, она тряхнула головой, затем взяла с кровати молитвенник и склонилась над ним, как будто хотела в благоговении прочесть молитву. Всем своим видом она напоминала дикое животное или чудовище. Вдруг, подскочив к старому пастору, женщина закричала:
— Ну, почему же ты не уходишь с дороги, если ты призрак?
— Ничего подобного, — ответил старик, стараясь быть спокойным, — я самый обыкновенный человек. Наверное, Небу хотелось, чтобы и вас так называли, но мне кажется, вы вышли из границ. Разве вы, с позволения сказать, не та госпожа Юлия Аккоромбона, которая жила здесь с красавицей дочерью?
— Моя дочь? — повторила сумасшедшая и величаво опустилась в кресло. Она взяла венок, сплетенный из соломы, и надела его на седую голову, отбросив спутанные волосы назад.
— Моя дочь? Жалкий раб! Как отважился ты говорить о ней? Она — знаменитая императрица Семирамида и сидит там, наверху, под золотым балдахином, высоко-высоко в своих сказочных садах, и думает, положив руку цвета слоновой кости на ослепительно-белый лоб и опершись другой на золотой скипетр, о новых чудесах света. О, такой картины небесной красоты, достоинства и величия еще никогда не видели на земле, и великий Рафаэль попросил вчера у нашего Плутона разрешения выйти из своей могилы и нарисовать это небесное создание.
— Оставьте ваши глупости, дорогая, несчастная госпожа Юлия, — посетовал пастор. — Небо привело вас домой, заставило смириться, и вернет вам ваш разум, который был когда-то таким светлым.
— Пусть вернет мне мои королевства! — воскликнула она пылко. — Но тише, мой Давид, мой сын, уже победил великана{124} — теперь он идет, помазанный король, со своими храбрецами, и проходит через горы — Господь велел Самуилу{125}, своему верховному жрецу, помазать его, — он покорит Саула, и тогда Давида коронует весь народ. Потом он подведет мать, неизвестную никому, закрытую шлейфом, к своему трону, и все народы будут молиться ей, бессмертной, что она произвела на свет таких детей.
— Какие речи ведет эта безбожница! — воскликнул в страхе Винченцо. — Не грешите перед Святым Писанием. Проклятый Марчелло — Давид, провидец царя, избранник Господний? Где это написано? Бандиты и убийцы — не святые, не Самуилом они крещены и помазаны не маслом, а кровью.
— Что? — воскликнула она, вскочила и крепко схватила за руку испуганного пастора. — Неужели вы — левит{126} и совсем не понимаете законы провидения? Разве вы не читали о Данииле{127}, любимце короля? Видите, вы, простофиля, это мой сын Фламинио, он служит теперь личным секретарем у великого тирана Олоферна{128}. А благочестивый епископ, мой сын, великий столп церкви, красноречивый, как Хризостом, ученый, как Ориген, более святой, чем Августин;{129} Святой Дух завтра изберет его папой.
— Ну, этого нам только не хватало! — проворчал Винченцо. — Грешная женщина, остановитесь, разве вам не достаточно того, что вы сами безумны, вы хотите и меня свести с ума?
— Тише, человечек, — обратилась к нему сумасшедшая, одарив леденящей душу улыбкой, и погладила его по горлу. — Не говорите так со знаменитой Корнелией. Знаете, мой сын Гай Гракх более вспыльчив, чем Тиберий, старший. Он сразу повесит вас, если я ему на вас пожалуюсь. Тогда вас сбросят с Тарпейских скал в реку{130}, совсем недалеко отсюда, у нас здесь так удобно.
Ах! — воскликнула вдруг она и, неожиданно вскочив, с криком заметалась по комнате, разбрасывая стулья и кресла.
— На помощь! На помощь! — кричала безумная Юлия. — Она тонет, моя дочь! Мое дитя! Убийца, проклятый, гнусный Камилло бросил ее в реку!
— Ну это уж слишком! — возмутился священник. — Образумьтесь, старая женщина, или каждый сочтет вас за сумасшедшую, если будете говорить такие нелепости!
— Ну, тогда давай потанцуем, мое сокровище! — повернулась она к Винченцо. — Если ты действительно считаешь, что здесь нет ничего зазорного.
Она вскочила, потом снова упала в кресло.
— Нет, — еле слышно прошептала она, — мои ноги что-то не слушаются, горе совсем лишило меня сил. И петь я больше не могу. Вы знаете мои прекрасные стихи? Да, мой «Освобожденный Иерусалим» они издали, а меня заперли в доме сумасшедших. Вы — один из них, и я должна перед вами выступать и вести поэтическую академию. Я жду от вас стихов.
— Этого мне только не хватало, я — сумасшедший, а она — умная.
— Как, Астрея{131} совсем покинула мир! О, сколько ужаса, сколько позора свершилось с тех пор, — продолжила старуха. — Как угнетают невинных, как истекают кровью бедняки, как закон осуждает того, кто прав, а зло и преступления ходят одетые в пурпур. Они хотят сделать папой Фарнезе, тогда Луиджи станет губернатором Рима, а все мои близкие будут обречены на гибель. Молитесь, чтобы Христос и Мария снова прислали к нам Астрею.
— Пусть они лучше прояснят ваш разум, — ответил пастор, — но они наверняка думают, что это впустую потраченные усилия.
Увидев, что больная немного успокоилась, Винченцо решил, что можно теперь разговаривать с ней о более разумных вещах и более проникновенно. Юлия слушала его и принимала его доброжелательность, поскольку после сильного возбуждения немного пришла в себя. Она привела в порядок волосы, набросила на плечи плащ и обещала спокойно принять волю Неба.
Вошла служанка, простая крестьянская девушка, и принесла немного еды и вина. Только ей, никогда не отвечавшей своей госпоже и не слушавшей ее безумных речей, разрешалось входить к донне Юлии, для всех остальных дверь была заперта, и никто из жителей Тиволи не знал, что синьора Юлия снова поселилась недалеко от них.
Словоохотливый Винченцо стал часто заходить к бедной больной и постепенно она привыкла к его присутствию. Иногда ему казалось, что к ней возвращается разум, правда, к добру ли?
Часто они сильно бранились, ибо старик не мог слушать, что его племянник, невинный Камилло, послужил причиной несчастья семьи. А когда синьора Юлия сравнивала вероломного Марчелло с Давидом, пастор так выходил из себя, что в такие мгновения трудно было разобрать, кто из них более безумен. Он по-христиански прощал ей мифологические и исторические глупости, когда она называла себя то одной, то другой царицей, или Юноной, Минервой, иногда даже Ниобеей{132}. Но когда она дерзко вторгалась в религиозные таинства и хотела присвоить себе и своим близким титулы великих персон из Библии или Писания, он становился строг и неумолим. Поняв его непримиримую позицию, она постепенно отвыкла от святотатства и довольствовалась мирской историей и языческой поэзией.