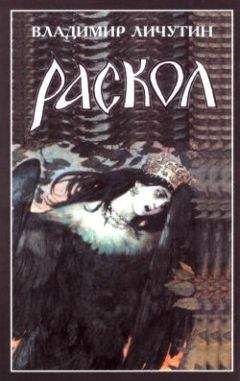– Буде тебе казнить-то... Кишки нажог, – передразнил хрипло. Сотник дергал головою и мучительно морщился, будто зуб разболелся. – Худо ты меня почитаешь. А ведь из-за тебя пропадаю, баламут окаянный. Мутишь воду-то. И меня, глядишь, под монастырь. Какой послабки дал. А вдруг нашепчут... Спустили бы тебя ко всем чертям иль скончали скорей. Чего тянуть? И мы бы по домам в гулящую. Собаки и те куда лучше нас живут. Как тут не свихнуться...
Аввакум молчал, прислушивался, что творится в житьишке: от бешаного всего жди. Не было забот, так купил мужик порося. Чего взвихрился? Сам в тюремке, забит в землю с головою, хорошо, когда штей плеснут из кислой капусты. У самого хлеб со счету, а тут живи с бесноватым и каждую минуту лови дикой выходки.
Сотник притушил гонор, сбавил голос, каждое громкое слово отдавалось в голове. Присдвинул на затылок треух; серенькие глазки взялись кровавой паутиной. Хорошо посидели, есть что вспомнить.
– Сашка Машигин сбил с панталыку. Давай, говорит, Ларивон, по крюку дерябнем ради дня недельного. Ну, встали на левую ногу, надо и правую подправить. Взяли у целовальника по кружке, побежали на обех лапах. Но что-то глаза приослепли, худо видят. Ты, поп, знаешь нашего брата стрельца: пить, штоб вдребезги, а биться в лоскутья. Ну и просиделись, наревелись, а сейчас впору запеть: «Со вчерашнего похмелья болит буйная голова»... Машигин к тебе наслал: поди, де, к Аввакуму. Он пьяного плетью потчует, а болезного просвиркою...
– Так не болен ли ты?
– Вот тут жмет, а там крутит, – показал сотник на грудь и голову. – Больные сраму не имут. Поправил бы, батюшко. И надо-то пятиалтынный с отдачею.
Сотник просил виноватым скорбным голосом, но с той нагловатой настойчивостью, от коей добрым словом не отбояриться. Ежли не хочешь ссоры да есть в мешке копейка, отдай без промешки.
– Это мертвые сраму не имут. А ты – срамной человек, Ларивон. Ты около меня – как кот у сливок. Худая я корова, на тощих кормах живу сколькой год, в скорбех пропадаю, на ужищах вишу, одни ребра во мне, а ты все титьки отдерьгал за короткое время. Только и слышу от тебя: дай-подай... Ох, связался коли с падшим, то и сам повязался до смерти.
Аввакум бормотал уже себе в бороду, с кряхтеньем отыскивая в подпечке заветную кошулю, куда собирал милостыньку со всей Руси по копейке, а растрясал, вот, пригоршнями. А поди не дай – и последнюю свечу погасят, и наступит вечная тьма. Да и то верно, и Ларивон не крайний злодей: задумал бы, так давно бы все отнял. Стыд-то не потерян, коли со мной якшается.
Подошел к лампадке, загородившись от Кирилла спиною, скупо рылся в тряпице, перебирая монеты, чтобы не промахнуться. Бешаный мучительно зевал и со всего размаху лупил себя кулаком по колену. Протопоп вышел из засыпухи, протянул сотнику деньги, верно зная, что никогда не получит назад.
Проскрипел:
– Чтоб тебе околеть от винища, проклятый. Ой ты, жорево и неслух.
– Ты Кириллушку-то прибери. Все веселее житье, – не смутясь ответил сотник. – Молись за меня. Да не забудь отдарить.
Ларивон Ярцев решительно водворил протопопа обратно в камору, сунул в пробой замок. На воле уж совсем развиднелось, в отверстое окно врывался теплый ветер-шалоник, скоро сжигая уже нежилой снег; стайка серебристых пулонцев вдруг ссыпалась из-за тына на белые плешины по краям тропы. Аввакум натолок хлебных корок, выкинул в проем и так, глядя на веселых беззаботных тундровых птах, провалился в тонкий сон. И повиделось ему, будто лежит он на лавке в родимом дому в Лопатицах, и тут отворяется дверь и входит высокий, голова в потолок, незнакомый муж с светлоблещущих одеждах. Он ласково касается ладонью Аввакума, и вдруг из его груди вырастает куст, кованный из золота. И такое сиянье от куста, как от вешнего солнца, когда глядишь на него, не заслонившись ладонью. От мрака в глазах Аввакум вскрикнул и пришел в чувство...
Бешаный что-то гугнил, возился на полу у печи. Курился дымок, уже запахло паленым. Все припасы, что Аввакум приберегал до худших времен, были распотрошены по изобке. Кириллушка в олений пим насыпал пшенца, срыл туда из ладки печеных наваг, налил воды из бадейки, разложил на полу костерок из лучин и сейчас, помешивая Протопоповой ключкой, варил в сапоге ушное.
– Ах ты, нехристь! Не шалуй мне, баловной! – завопил Аввакум, стегнул Кириллушку четками промеж лопаток, перетянул по шее и голове. Закрутил ухо в пельмень и отвел на лавку. Бешаный по-заячиному тонко вскричал от боли, затрясся, заслоняясь ладонями. Из его прозрачных, каких-то льдистых глаз вдруг посыпались слезы горохом.
– Батюшка, не казни, помилуй детку... Изверг ты, а не батюшко! Не хочу с тобою знаться, злоключимый человек, спусти меня на волю. На волю хо-чу! Вот ужо бесу Микешке скажу, как навестит, он тебе выймет ребро на шти, – уже загрозился Кириллушка, глаза его скоро просохли и обтянулись тоскою.
Аввакум перекрестил болезного, усадил на лавку, погладил по голове. На вороте рубахи плотно гнездились платяницы, и в колтуне волос было поизнасажено вшей.
– Прости ты меня, грешника, – повинился Аввакум. – Сам не знаю, что нашло. Да и ты, вишь ли, братец мой, хорош. Чего надумал? Не токмо голодом заморить, дак и в дыму удушить.
Бешаный от теплого голоса сник, послушно подставил себя Аввакумовым рукам. Протопоп ножницами окорнал с Кириллушки волосы, отдал последнюю рубаху и исподники, на плечи кинул шубняк, с Мезени Настасьей Марковной спосылан. Дал горбуху с солью и квасу. Бешаный жадно поел, пал на лавку и скоро заснул. Аввакум хлебы вымесил, печь вытопил; дым глаза выел, пока обряжался, на коленях елозя. Но вот и стряпня готова. Кириллушка кротко посапывал, совсем мирный человек, и лишь от присутствия его в тюремке протопопу было хорошо. Одиночество сокрушает пуще хвори и глада, а тут вон как привелось – и сотник вот помирволил; скаредный и жадный до дареного, тут вдруг попустился на доброе и вспомнил, аспид, про Бога.
В оконце луч солнечный проник, тепло улегся на земляном полу, и вся изобка (сажень на сажень) приняла веселый вид. Ах, человек же не скотина, все переможет, он и в самой захудалой норе приноровится к жизни и отыщет себе счастия. Вот и в углах, где во всю долгую зиму жили сугробики снега и накипь льда, сейчас отпотело, и стены поприсохли, и потолок, набранный из тонкомера, не сочил влагу.
Весна красна; зиму перенесли, а сейчас, после новых страстей, и дальше тянуть надо. Бог не выдаст, свинья не съест. Вот и Михайлович, по всем приметам, не вовсе пропащий, и в нем поди отыщется отцовское, и всех извергов рода человеческого, опомнясь, погонит прочь со Двора. Только бы детки духовные не пали духом и не увлеклись бы, аки слепцы за поводырем, за Никоновыми новинками и не поддались лживым переменам.
... За отцовское-то стой! Тебе руку долой, а ты пой «Господи, прости мя»; тебе и ногу прочь, а ты смейся лютому злодею в глаза; тебе и язык выковырнут, а ты рассуждай одним сердцем, и по глазам признают правоту твоих мыслей...
Вот Федосьюшка Прокопьевна просила совета, а я в хлопотах о себе позабыл от отцовском долге. Какой же я пастырь, ежли из-за малой невзгоди сокрушился и пал сердцем?
Аввакум разложил писчий снаряд на крохотном столике под окном. Впереди длинный день, и надо его скоротать. Меж молитвами-то самые сиротские часы, и не знаешь, чем занять их, чтобы утекли бесследно, как ключевая водица.
В оконный проем пряно пахло болотиной, вешней водою с Пустого озера, талой смолою и рыбьими черевами. Мужики поди уже скинули валенки – пришивны голяшки и сейчас обулись в бахилы, густо напитав их ворванью. Где-то еще помор бредет слободкою, а от смазных сапог дух впереди его летит. У них, миленьких, свои заботы, как бы семью прокормить да пред Господом не сокрушиться в уныние...
Боже, Боже, зришь ли ты меня, тварь малую: яко червь, ползаю в земле и, яко червь, насыщаюсь тлетворным духом своим и, будто вешняя квакуша, воплю у поречной старицы, помышляя свой безумный крик за высокую песнь.
... Прости и помилуй! Дай мне того стояния и терпения, коим преисполнен Феодор Мезенец. Как-то он там, дружок любезный? Ишь вот, боярыня его незалюбила в высокоумии своем. Надо укорот дать бабе... Говорят, в яму брошен, болезный, что и моя семья; но – тот все стерпит без нытья и притужанья. Милый, милый сынок духовный. Царь-от крепко юродов незалюбил, он за ними поскочит, как выжлец за лисою. Юроды правду рычат без боязни, их голос до небес слышен. А кто на кривую дорожку попустился, наперегонки с самим чертом, тот и от истины бежит сломя голову.
... Вот тоже Христова невеста Федосья Прокопьевна. Власяницей терзает плоть, а сердцем-то плачется о сыне Иване; мир не отпускает сердешную, цепляется за подол, будто репей, и сладу с ним нет... Иван-то уже женихается; писаной красавец был в детках-то; малым его оставил на Москве, и уж головой в потолок, женихается, мать теребит, де, дай-подай невесту. Послал ему благословение к женитьбе. Получил-нет? Стрельцу у бердыша в топорище велел ящичек сделать, и заклеил своима бедными руками то посланьице в бердыш, и дал с себя ему шубу и денег близко к полтине, и поклонился ему низко, да отнесет Богом храним до рук сына моего, света...