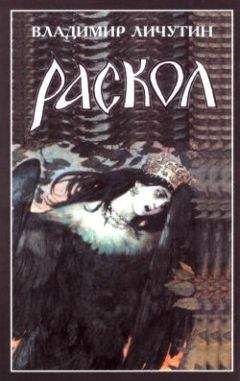Так решила Федосья, увидев на Рождество Богородицы страшный сон. Будто бы купают ее сенные девки в мыленке, загрузили в кадцу с головою, а в ней вместо парной воды кровь алая человечья, уже створожилась печенками и пахнет мертвечиною.
Тут и вестка пришла с Мезени от верных: де, юрода Феодора повесили...
Эх, сколько ратились, бывало, всяк одеяло на свою сторону тянул, жеребья бросали, будто на кону решали, кому первому смертный главотяжец вздевать; разминулись, расплевавшись, как ненавистники, а ныне последние слова юрода светятся, как скрижали на манатье, как святой остерег блаженной души, уже отлетающей в вечный Дом: «А вы-то как? Ведь пропадете без меня! Вижу, много мяса разложено по торгам. И жбаны крови человечей разоставлены по ларям, как морс брусеничный. Как вы-то, бедные, будете без меня?»
И ушел, бесплотный уже, и растворился в Руси. Не хотела, но отчего-то поспешила в чулан наставницы, приникла к зальделому окну, наискивая прорубку света; увидела, как струилась поземка, вскидывая с забоев снежные вороха, завивая подол хламиды, обнажая иссохлые шишкастые ножонки. «Бедный! – невольно вскрикнуло сердце. – Зябко-то как!» ... Нет-нет, поди прочь, сгинь с глаз, обавник, сотрись из сердца, сотона, как бы и веком не бывало в дому! Ведь оприютила с любовию, а всё житьишко перетряс, как свою гобину, и домашнюю приязнь превратил в вечную свару...
С протягом закрылись ворота, упал железный крюк в проушину, сторож зевнул, подпрыгнул, греясь, хлопнул себя по бокам, сплюнул вослед бродяге.
Она тогда без нужды вроде пошла в повалушу, где ночевал Феодор, и увидала посередке пола жалкую грудку носильного платья: синий кафтанец английского сукна, лазоревые порты с галунами, а поверх брошены желтые юфтевые сапожонки, когда-то не выношенные ее благоверным хозяином. Постояла, бездумно вглядываясь в одежду, и, будто навсегда прощаясь с юродивым, досадливо плюнула на тряпки, как дворовый вратарь, и гневно приказала сжечь в истопке.
... Лишь в снах человек провидит свою судьбу: то он скидывается в ребенка, то проживает жизнь грядущую, коя лишь сулится в отдаленных годах, то с мертвыми беседует отворенным сердцем, как с живыми; ведь никто не покидает бренного мира сего, не оставив по себе вечного странника на земле-матери, бесплотную, но живую стень, осязаемую лишь в ночном забытьи.
... А сон-то в руку. Она нынче в крови купалась, и вот вестка: де, юрода не стало, скончали блаженного; и все его примолвки и придирки, отчего так обижалась прежде и жалилась пустозерскому протопопу в письмах, будут отныне как отцова воркотня: и слушать вроде бы досадно, но вспоминать после тепло.
Ведь было же... Она тогда окстилась поганой щепотью, чтобы помирволить государю и вернуть сыновьи вотчины; ради Иванушки, одинакого сына, поклонилась в ноги рожку сатанину. И следующим же днем на трех пальцах, коими знамение сотворила, выметались багряные желвы на суставцах, раздуло изнутри и кости зажгло нестерпимым огнем. Пришел юрод трапезовать. Взмолилась тайно, де, прости, отче; встала на молитву возле. А Феодор внимательно и сурово взглянул в глаза и, прочитав ее бессловесные муки, вдруг ухватил больные пальцы и сгорстал бережно, пожамкал, помял в корявой ладони, и тут погасла боль, а к вечеру и язвы утекли под кожу, как не были. Знать, дана была юроду целительная чаша, да опрокинулась, уплыла вся в северные снега...
Ой, не хулите, благоверные, тех, с кем никогда не расстаться; повязаны вы нерасторжимой вервью, как каторжане железной путевой цепью, и брести вам отныне вместе до Господнего суда к ответу.
Сморилась. Кинула на пол рогозницу, повалилась опочнуть, подсунув под голову волосяную подушку. Весть не шла из ума. Кровать в кисейных пологах, высоко взбитая, была как пуховое небесное облако, по которому гуляли смирные ангелы. Вдруг рука заныла, по ней к предплечью побежали кусачие мураши, тонко заныла грудь. Дверь в опочивальню приоткрылась неслышно, украдчиво ступая, вошел Феодор; ступни его, обычно гремевшие, как коньи копыта, сейчас будто шелестели по натертым воском половицам. Подол белоснежного кабата был в три ряда обложен розовыми бейками, по-над коленями по тканине бежали красные кони, из груди, где обычно висел верижный крест, выметнулся ветвистый золотой куст, усеянный мелкими цветами шипичника. Феодор что-то шептал, ласково улыбаясь, и вдруг наклонился, бережно приобнял Федосью за плечи, пытаясь приподнять с рогозницы и возложить в постелю. От юрода пахло поститвой, кадильницей и свечами.
«... Дочи ты моя, Богоданная невеста, душистый Христов хлебец...»
Откуда истекает этот разымчивый талый голос?
Губы вроде не растворялись, плотные, мясистые, из-под них высовывались мелкие фарфуровые клычки. Вдруг мгла легла на ясное лицо юрода, он резко вспрянул головою, пытаясь скинуть чью-то руку, туго придавившую шею, и невзначай придернул Федосью на себя. Она вскричала не столько от боли, но от внезапного страха. Ей помстилась за плечами блаженного темная рогатая тень с пылающими угольями глаз.
«Доча... голубеюшка... госпожина, очнися!»
Меланья бережно встряхивала боярыню за плечи. Ой, худое наснилось, раз кричит на весь дом; знать, бесы толкут беспомощную невинную душу в своей ступе, изымают из ребер, чтобы перенять к себе.
Федосья открыла беспамятные глаза, утекающим сонным взором наискивая юрода и отчего-то не видя его. Ведь только что был тут, еще кожа хранила теплое прикосновенье, еще не изветрился как бы из самого Федосьиного нутра дух живого пришлеца, его обволакивающий взор.
Боярыня села на рогозницу, тупо встряхивая головою. Волосы под тугим повойником превратились в войлочный колтун, и в самой глубине засаленного клоча шевелилась беспокойная вошка.
«Сестра к тебе, Евдокия Прокопьевна. Велишь ли звать?»
«Беда стучит в ворота, матушка. Не проворонь, встречай.
Вели-ка сестрам Христовым немедля съезжать из дому. Пусть на Волгу спешат, в скиты али куда подале от еретического глаза. И ты, сокровенная, беги нынче. Слышь, уже в ворота стучат».
Федосья перекрестилась, широко зевнула, как опоенная дурманом; в висках кузнечные молота били по наковальне: то кровь дурная, вспугнутая давешним страхом, искала протоки.
«Будет тебе зря-то. Накличешь беды», – сурово остерегла наставница, не чинясь перед хозяйкою. Но сразу же сметливым умом перекинулась на престольную, в какую скрытню сунуться при нужде, в какой ухоронке увязнуть надежнее на смутное время. Федосья – вещунья, напрасно не станет разводить толковище иль гнать бессловесных на улицу. Значит, воистину приперло, последний час настал; то не черти толкли бабу, но небесные гонцы теребили за поняву, велели вставать. И, не допрашивая более, мелкой поступочкой поспешила к голубицам в келью.
А Федосья Прокопьевна бормотала меркло, сонно, неживым голосом: «Юрод приходил, зазвал с собою. Идем, говорит, со мною, невеста Христовая, под сладкий венец... Да вон и сестра с худыми вестями. Слышь, Меланья, как чоботки ее стучат?»
Боярыня спрашивала, но никто не отвечал ей...
* * *
Дурные вести не пеши ходят и не саньми ездят, но по воздуху с ветром текут иль тайной летучей почтою по духопроводу.
Евдокия еще по лестницам подымалась, унимая сердце на рундуке, подметая подолом и цветными рукавами долгого опашня вощеные половицы сеней и переходов, крытые персидскими кошмами, а Федосья Прокопьевна, перебирая костяные четки, уже верно знала, с чем спешит сестрица... И что же призамедлилась-то? Коли взняли топор над главою, так роняйте, не мешкая, отпускайте душу на простор.
Знать, где-то в куту переняла ее смышленая наставница, угостила сыченой водою, принудила отдохнуть на лавице, отпышкаться, чтобы первой выведать слухи: на сглазливой воде иль на меду настоены они. Ей, верховодке, еще долго пасти смиренное стадо, и очи надобно иметь зрячие, а душу – не замутненную тревогой.
Федосья раз двадцать перекинула костяную зернь, прочитывая Исусову молитву, и как-то само собой успокоилась. Прошептала: «Не вкусив опреснока, и горчицы, и фараонова огня, не попадешь в царствие небесное».
Подошла к окну, нашла чистую репью, прилипла взглядом к стеклинке. Сторож отворил калитку, пропустил черниц, перекрестил в спину: идите, де, с Богом. Монашены шли след в след узкой тропинкой меж осенней жухлой отавы, отряхивая метелки осоты: в черном кафтанье, в платах кулем, пригорблые, как лесовое воронье, с торбами на загорбке, они спешили за Неглинную, в Замоскворечье, в лесовые пустошки, в суземные келеицы и скрытни.
«Спопутья вам, сердешные. Да пусть ни один торчок не попадет вам под ногу. Пусть ни одна каравая рука не придернет за старческий зипунишко и не укоротит ходьбы. А коли припрет нужда, так не бойтеся смерти ни от глада, ни от хлада, ни от зверя, ни от войны, но вершите свое дело, как научал Господь! Божья охрана лучше человечей».
И вдруг улыбнулась, посветлела ликом, словно бы грудь ее отомкнулась наконец, изгнав последнюю черствость. Спровадила Христовых невест, а нынче и самой сбираться в последний путь, вздевать терновый венец. Эх, коли соступила на волосяную стежку меж провальных тундряных болотин, так иди смело тропою, не сбредая с нее, не хватаясь за услужливую сосенку, обавно вставшую на пути.