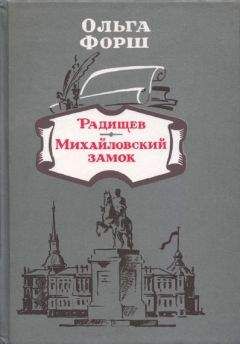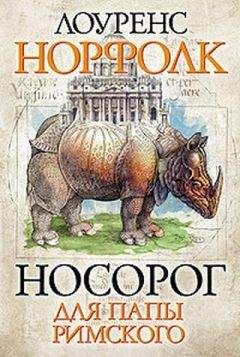Вот они — тысячи: сами к нему пришли, сами его хотят. Люд крестьянский, рабочий, солдатчина бессрочная — иногородцы. Да мало ли тут с ними слез, пота кровавого? И не все ль им равно, кто поведет, было б кому вести!
Эх, уж завоеван был целый край, уж арьергард обеспечен, на Москву только двинуться оставалось. Из рук взято дело. Теперь начинай все с начала. Пошатнулась головушка…
Нет, не донской это давеча был казак на земляном валу. Не он выкрикнул его имя крещеное. Это сама судьба его одернула:
— Стой, Емельян! Ни шагу дале…
Неудачи ноне пойдут — это чуяла душенька с того самого дня, как он свою «Черную бороду» потерял — орден на лазоревой ленте, который возлагал на себя в наиважнейших оказиях. Сам его выдумал, сам так назвал. Сам же сказал себе: отныне это мой талисман. Поколь при мне будет, не оставит меня счастье в боях.
В бога то ли верил, то ли нет, а уж вот в приговор-заговор, в талисман как не верить? И тот орден счастливый был.
Как налагал он ту ленту голубую на свой алый кафтан, при нем одна баба была, очень ему нравная. Она же, та баба, дуро́м и воскликнула:
— Ой, батюшко, твоя смольевая бородушка что солнце на лазоревом поле!
А тут енералы:
— Как прикажешь твой новый орден назвать?
Был в веселом духе, сказал:
— Чай, нам не гербовники тормошить. «Черная борода» — вот мой орден.
Так с тех пор и пошло…
Потерялась эта «борода» вместе с шкатулкой, полной других регалий, аккурат после разгрома под Троицкой и бегства по линии. И в самый тот день, как столь лестную похвалу от самого Михельсона привелось получить.
Близ деревни Лягушиной Михельсон, выйдя из леса, увидал на поляне в пяти верстах тысячи две его войска.
И что же? Ведь обознался — за регулярный Декалонгова генерала корпус принял. Разведчик перехваченный рассказал. То-то было потехи!
Со зла как буря Михельсон налетел. На него же киргизы ответно. Сразу было подмяли, однако не в добрый час молодцы к орудиям кинулись. Их тут сам Михельсон с изюмскими гусарами да на свежих лошадях и настиг.
Сытно воспользовался Михельсон. Оставили у него последнюю пушку, шестьсот убитыми да четыреста взятыми в плен. И вот тогда-то утратилась и «Черная борода».
«Мой был талисман, нонче, видать, суждено, чтобы еще чей иной! У казаков наших мало ли черных бород?»
Уже донцы поотстали — на что он им, коли стал неудачлив? Ужель и яицкие свои не тверды? Обидно…
Вот Иван Творогов напирать вздумал, чтобы сам указ подписал, а тогда, при удаче, небось и пикнуть не смели. И грамотой не пеняли, пока его сила была.
Казак Иван Шундеев да Григорий Туманов от его имени какие приказы писали башкирским старшинам! О наборе людей, лошадей, о немедленном их представлении. И представляли. А подмахивал именные кто? Да все Иван Творогов. Сам только печатью тискал с царской персоной на сургуче: дескать, «нашей короной укрепить соизволили».
«Оно, конечно, от своей судьбы не уйдешь. Однако, может, еще не судьба погибать-то? Может, еще выскочу? То ли бывало?»
Из Берды бежал с горсточкой и под Сакмарским городком, почитай, голый, а была судьба — и собрал в Башкирии новую силу.
Припоминать стал особо удачные дни на Авзяно-Петровских заводах и Белорецком. Вот если б там сейчас отдохнуть — да со свежими силами. Бывали дела: всю святую неделю там просидел, чтобы Щербатова с Михельсоном со следов сбить, — и ведь сбил. Кроме того, в придачу Башкирию поднял!
Как снежный ком, что с горы катится и сам собой в гору растет, табун за табуном скопились наездники. Свои следы пожарищем намечали, чтобы врагам было нечем разжиться, мастеровых с собой брали, и становились они первыми воинами у Хлопуши.
В Магнитной пробыл два дня. Усилен был приходом Белобородова с новым скопом и Овчинникова с своими яицкими.
А команды царицыны нипочем настичь не могли. И невдомек им, почему у них кони с ног валятся, а мы всё на рысях впереди. А разгадка-то вся в мужичках. В каждом селении нам свежие кони готовы, и не силком, от своей воли люди готовили — так-то! А царицыным ни за кнут, ни за плату нету коней! Под кем, значит, люди-то быть хотят? Под ее высокоматерней милостью, то ли под нашим справедливым, под отеческим попечением?
А верстах в двух от Троицкой ведь чуть было не погиб! От кого? От некоего поручика Петра Беницкого. Опять пришлось с пятеркой своих от Декалонгова генерала бежать. Поручик тот горячий — в погоню… уж вот он шагах в десяти. И морда коня вороного вся в пене, храпит конь, а сам поручик — как на картинах рисуют — белый, ровно мел, рот открыл и визжит, очень ему живьем схватить хочется. Шалишь! В тот час судьбы еще не было, чтобы схватить.
А какие полководцы супротив меня воевали?
— Князь Федор Щербатов — он крепости брал в Крыму: Керчь, Еникуль; князь Голицын, Фрейман-генерал, что донцов усмирял. Еще Декалонгов, сейчас вот Михельсон. А над Михельсоном — граф Петр Панин, и с фронта вызван сам Суворов.
Больше всех нравился Михельсон. И любил просматривать его стратегию.
— Учусь я у сего полководца, ребятушки, как царь Петр у шведов учился!
Нет, решительно не спалось в эту ночь. Звезды, что ли, мешали? Словно любопытные соглядатаи, гвоздили они сверху его и с боков, где разъехались швы дорожной палатки. То ли беспокоило, что «язык», словленный вечером, сказывал, будто пуста Сарепта-колония — все ее немцы выехали в Астрахань.
Для отдыха от зловредных мыслей стал прошлый путь Михельсонов просматривать. Все места ведь в памяти как на ладони. А диспозиция больно занятная была такова:
На Симском заводе Салават, с ним три тысячи башкирцев. Неподалеку, на Салткинском заводе, атаман Белобородов, «безногий енерал», со своей тысячей и шестью орудиями. Михельсону, хоть убей, помешать надо их встрече. А чтоб помешать — кроме Уфы, перейти ему через реку Сим. А там полсотни мостов водой снесено. Ну, работы понтонерам! Да что фуражу с собой надо брать, словом — мешкотное дело! От худой дороги артиллерия поломалась. И главное — все мужички с работы бежали. Куда? К кому бежали?
А прямехонько в наши войска. К нам бежали.
Однако Михельсон взял-таки Симский завод. Вот какого воителя супротив выслали!
И ведь почти так же лестно было сейчас вспомнить, что побил тогда Михельсон, как если б своя была удача. Есть поражение к чести, есть к бесчестию.
Понатерли солдаты портянками ноги. Из-за кого? Из-за «злодея, донского казака»?
Нет, покруче замешана каша.
Не как стадо тупое, не вслепую поднялись люди. Сами знают, чего им добыть себе надо.
А что сегодня один поведет, а назавтра другой — не в поводыре теперь сила.
Тихо в степи. Смотрят звезды в палатку — молчат. И пред необъятной степью необъятна и гордость в душе.
Что б дальше ни было, уже не забудут люди его. В целом мире знать будут. Царь Иван Грозный под Казанью семь лет простоял, а у него Казань в три часа пеплом покрылась! Какую силу поднял! Какая сила за ним пошла!
И в случае даже теперь будет конец? Так не делу ж народному. Что ж до имени, то имя взятое, как до него брали, и после возьмут.
Но делу конца быть не может: сырые дрова вовек не раздуть, а в сухостой искру кинь — и готово. На пожар все готовы: рабочий люд и крестьянский. Про степных речи нет. Только гикни — пять, десять тысяч коней двинут в бой! У них и старшинам и голи — всем под царицей петля.
И вспомнив, как только что потрясли ребятушки лагерь дружным криком: «Веди нас!» — Пугачев почувствовал прилив силы необыкновенной.
— Повоюем еще!
А снесут голову, а уймут черную бороду — мало ль найдется новых черных бород!
Хоть и не спал, а ровно в реке искупался, — успокоила степь. Необъятная и широкая, и над ней купол велик густой ночной синевы.
«Да что тут загадывать? Хоть день — да мой!»
Дрема смежать стала очи, и Пугачев зашептал не «вотчу», не «богородицу», а понравилось — еще мальчишкой был — дьячок в церкви непонятно некое читал. От тех слов океян вставал волнами. Катились мерно, одна за одной, тяжелые, ровные: «Многочасно… многообразно…»
А что именно, дальше Пугачев никогда и узнать не пытался. Заснул он крепко и снов не видал.
А тем временем в дальнем углу лагерей, за кибитками и палатками, в укромном месте, под огонек небольшого костра велось своим чередом заседание.
Один из перешедших в Алатыре солдат, с недавно остриженными, мукой пудренными пуклями, уже не бритый, но и не поспевший запустить казацкую бороду, держал в руках недавно выпущенное воззвание святейшего синода. Вокруг солдата сидели фигуры, сказать — набранные из театров. Кто в свитке и барских лаковых сапогах, кто в дворянской бекеше и лаптях, третьи, хоть одеты правильно, по-казацки, однако морды, как у читавшего солдата, в мелкой щетине, выдавали таких же недавних приверженцев регулярных царицыных войск. Озираясь по сторонам и снизив голос до шепота, солдат стал читать по-дьячковски нараспев: