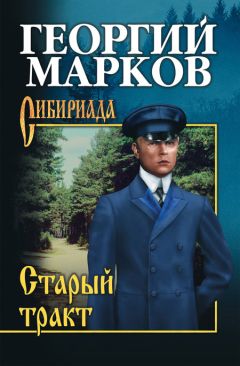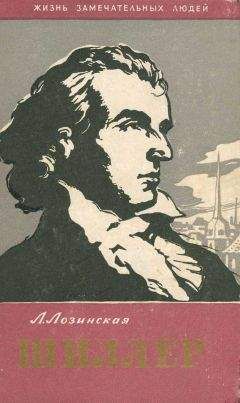Ефрем Маркелович так горячо зазывал Шубникова к себе в гости, что тот с облегчением подумал: «А я-то вообразил черт знает что! А человек-то ко мне с почтением, с добром. И отчего я такой мнительный?!»
— Спасибо, милейший Ефрем Маркелыч. Коли будет заделье по хозяйскому повеленью — не откажусь, любопытствую посмотреть в натуральном разрезе сибирскую тайгу. Заманчиво! — Шубников поймал в темноте руку Ефрема Маркеловича, крепко пожал ее.
— Ну да я еще разок-другой объявлюсь. Петр-то Иваныч, дай Бог ему здоровья, еще одну школу на тракте решил построить. А мое дело — хоть десять! Топоры у моих плотников вострые, всегда наготове. Таким Макаром до встречи, Северьян Архипыч. Я-то раным-рано, по холодку уеду, чтоб до жары подальше проскочить. — Ефрем Маркелович исчез в темноте, и только скрип его сапог в галошах долго еще доносился из тьмы деревянной улицы.
Нет, положительно Петр Иваныч Макушин Христов человек! Служить у него было одно удовольствие. Он никого не унижал, ни перед кем не старался выставить свое тезоименитство, был достаточно строгим в делах, но любил и посмеяться, пошутить — порой и сам над собой. С Шубниковым держался настолько учтиво, почтительно, что временами казалось, что не он, Макушин, хозяин — голова всему предприятию, а наоборот — Шубников.
В конце августа опять заявился в Томск Ефрем Маркелович, как всегда громогласный, пышущий здоровьем, в неизменных сапогах с галошами, в тройке с плисовой поддевкой, в шляпе пирожком.
Петр Иванович закрылся с ним в своем кабинете. Долго о чем-то они разговаривали один на один, а потом хозяин позвал Шубникова.
— На совет просим, Северьян Архипыч, — сказал Петр Иванович, озабоченно поглядывая на Шубникова. Тот медленно вошел, с тревогой думая: «Уж не провинился ли я в чем-нибудь?»
Макушин придвинул стул, пригласил старшего приказчика присесть:
— Плануем вот с Ефремом Маркелычем как робить дальше. (Шубников уже заметил пристрастие хозяина к некоторым местным словечкам: не «работать», а «робить».) Получилось, Северьян Архипыч, что благодаря вашему прилежанию книг и учебных пособий за эти недели мы продали в два раза больше, чем в прошлый год. И потому хочу я построить не одну школу, как замышлял, а сразу две: в Большой Дороховой и в Малой Жирове. Ефрем Маркелыч прибросил и говорит: куда так ловчее со всех сторон…
— Еще бы! — воскликнул Ефрем Маркелович. — И лес получается дешевле, и кирпич с железом обойдутся дешевле, и плотники уступят. Все-таки как-никак не один дом рубить — два. Ну а с переездом из деревни в деревню я им подмогу. Дам двух коней, две телеги… Даю слово, Петр Иваныч, на будущую осень пойдет детва в школы.
— Уж постарайся, Ефрем Маркелыч! До кой же поры плодить будем неграмотных. Сибиряки-то чем хуже других? Им тоже свет нужен.
— Похвальные заботы, Петр Иваныч. Люди не забудут ваши старания, — тихо сказал Шубников, понимая, что хозяин не ищет для себя в новом начинании никакой особой корысти.
— И непременно, Северьян Архипыч, библиотеки при школах откроем. Книг по сто в каждую библиотеку пошлем. Пусть и дети, и взрослые читают на здоровье для просвещения ума своего.
— С сего дня и начну откладывать книгу за книгой, Петр Иваныч.
— А что ж! Почему бы и нет? Но тут еще одно заделье к вам имеется, Северьян Архипыч. Надо бы проехать до этих сел, посмотреть, где школы-то рубить. Ефрем Маркелыч содействия просит, говорит: «Ум хорошо, а два лучше». Что, если вам проехать теперь же? Погода стоит ясная. Гнус на полях притих, морозцы уже случались. Кстати, денька три-четыре у Ефрема Маркелыча погостите. Тайгу настоящую посмотрите, утомление от книг сбросите. Я-то уж как люблю этот товар. А чуть на складе пересижу — в глазах рябит и в голове кружение…
— А я уж как рад буду оказать почтение! — бурно воскликнул Ефрем Маркелович.
— Премного благодарен, Петр Иваныч. Сказать откровенно — горячо любопытствую на тайгу посмотреть, да и по тракту еще подальше проехать. Говорят он, тракт-то, от Томска далее прозывается Иркутским?
— Именно так, Северьян Архипыч, — подтвердил Макушин. — Отправляйтесь к делу, а мы с Ефремом Маркелычем еще тут кое над чем помаракуем.
Шубников встал, слегка поклонился и поспешил оставить купца наедине с подрядчиком.
Всю дорогу от Томска до Подломного Ефрем Маркелович Белокопытов рассказывал о тракте, по которому они ехали. Шубников слушал насупившись, втянув голову в худые плечи. Да и как иначе отнестись к рассказам, если за каждым происшествием смертоубийство, а то и два-три, погибель душ человеческих.
Здесь вот почту с деньгами варнаки подрезали. Тут вот в лесочке сноха свекра зарубила, чтоб его капиталом от торговли в городе завладеть. Вон в тех листвягах партия арестантов охрану перебила, разошлась по белу свету, кто куда желает. А тут вот в логу шайка разбойников царев обоз с золотом подломила. Отсюда и деревня получила свое необычное название — Подломное. Было отчего Шубникову поникнуть головой. Но чем дальше ехали, тем чаще по перелескам мелькали добротные дома хуторов под новыми тесовыми крышами, с плотными высокими заборами дворов, украшенными резьбой воротами. От этих хуторских усадеб навевало уютом и смирением. «Благостно тут живут, мирно, как-то не верится, что по тракту душегубство», — думал Шубников.
— А что, Ефрем Маркелыч, по хуторам не разбойники прячутся? — полюбопытствовал Шубников, когда неподалеку от дороги, в березняке, мелькнули постройки.
— Упаси боже! Живут тут мужики. Гнут хрип от темна до темна. Кой из землянки в дом переберется, сто шкур иной с себя сдерет. А варнак, он пришлый, с Сахалина, из Нерчинска, с других каторжных мест. Вырвется на волю и дуреет, как застоялый конь. Шалый народишка до безумия! Многие так всю жизнь и проводят: сегодня сбежит, а завтра его обратно гонят под конвоем с бритой головой!
— Вот и на Барабе Петр Иваныч кресты мне показывал.
— По всему Сибирскому тракту кресты, Северьян Архипыч. От Владимира до Тихого океану. Тракт, как жила — вся кровь по нему течет — и людишки, и товары. Жизнь тут сильно непричесанная. А что делать?
— Ах ты, матушка-Россия! Все-то в тебе на свой манер! — вздохнул Шубников.
Перед деревней Подломное местность заметно переменилась. Лес стоял темный, густой — пихта да ельник. Береза кое-где, прижатая к самой дороге, как сиротка.
Тракт побежал куда-то под откос, все вниз, вниз, будто в пропасть. Напахнуло из леса гнилью, в глаза бросилась прозелень в болотах. Даже как-то померкло голубое небо.
— Уж как сумрачно! — не удержался Шубников, неясно представляя, как тут можно было «подломить» обоз с золотом.
— А сейчас переменится! — бойко утешил его Ефрем Маркелович. Он прикрикнул на коней. Замахал ременным бичом.
И вправду, вскоре местность стала меняться. Дорога запетляла в гору, темный лес отступил, переменились и запахи — потянуло с полей медистым настоем белоголовника и иван-чая.
От силы через полчаса Шубников увидел широкую равнину, по которой тянулась длинная-предлинная улица из крепких бревенчатых домов.
— Вот мы и дома, Северьян Архипыч. Чуточку отвернем в сторонку, и тут как тут мое гнездо.
Усадьба Ефрема Маркеловича Белокопытова — на отлете от деревни. На крутом берегу желтеет на красном кирпичном фундаменте крестовый дом с пристройкой в два этажа.
Дом новый, в светлых смоляных каплях, не успевших еще почернеть от дождей и ветров. Над крайним окном доска, а по ней выжженная витиеватая надпись: «Белокопытов Ефрем Маркелович с сыновьями». Прямо как в городе, у заправского купца, да только сие — претензия, не более того, а может быть, мечта, выраженная столь откровенно и грубо. Далеконько еще Ефрему Маркеловичу до гильдии, но вправду сказать, живет справно, особо не тужит, надеется на большее.
Кони остановились у ворот круто, чуть не вышибив их головами и копытами. Коренной пегий жеребчик заржал тонким, радостным голосом. Из глубины двора послышалось ответное ржание: мать-кобылица, по-видимому, признала своего давнего сынка, откликнулась на его известие о прибытии с дальней дороги протяжным рокотком: го-го-го!
— Эй, Харитон, открывай ворота! Ты что там заснул, чё ли?! — закричал Ефрем Маркелович зычно, повелительно. Собаки во дворе, заслышав голос хозяина, залаяли пуще прежнего, завизжали от подобострастия, от преданности, коей измен не случалось. Хозяин платил за это щедрой кормежкой, лаской, свободой от цепей на целую ночь.
Как крылья большой птицы взмахнули створы ворот, распахнулись настежь, и открылся взору продолговатый двор: трехэтажный амбар с клетью, рубленая из толстых бревен конюшня, стойло для коров с печным подогревом, хлев с загоном для овец. А в самой глубине двора навес, забитый телегами, санями, кошевками. А за двором через открытую калитку виден огород, речка, у спуска к ней баня с трубой — баня «по-белому». Харитон — рослый мужик, с черной цыганской бородой, кинулся к лошадям, но хозяин остановил его: