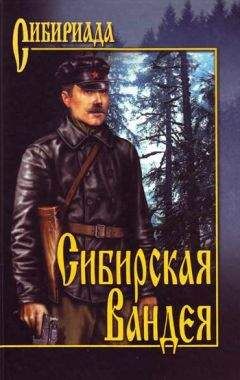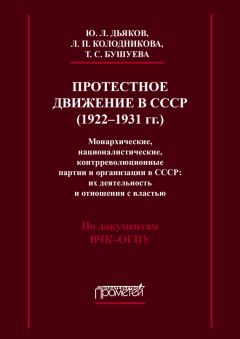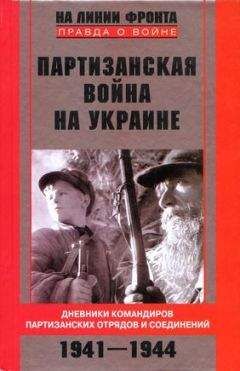– А если я откажусь? Эта работа не по мне.
– Почему? Вы же в прошлом эсеровский организатор. В Томском жандармском управлении вы значились под кличкой «Верный». Правда, при верховном правителе вы сменили секретную деятельность на открытую полицейщину. Ездили по селам и весям и постреливали инакомыслящих. Пороли шомполами. В память о вашей почетной деятельности в штабе Дяди Вани есть соответствующие документы. В случае надобности – они могут перекочевать в Чека.
– Ого! Еще раз – преклоняюсь!..
– Итак, будете кокетничать?
– Нет. Вы мне все пищеварение испортили после стерляди… Надо же!..
– «Больше созерцательной философии», дорогой мой!.. И запомните: «кто не с нами – тот против нас». А теперь слушайте…
Разговор врача Николаева с бывшим жандармским провокатором и начальником колчаковской милиции Галаганом-Рагозиным стал еще более содержательным и закончился только под утро.
За неделю до вышеописанной встречи в городе, еще состоявшем на военном положении, произошел один малозаметный случай.
Комсомольский патруль второй роты третьего территориального батальона вел ночной обход вокзального района города.
Ночь была холодной, буранной, и девятнадцатилетние погодки – районный комсомольский вожак, бывший матрос сибирской военной флотилии Гошка Лысов и его напарники, деповские комсомольцы Ленька Толоконский и Мишка Мирошниченко – отчаянно мерзли. Флотский бушлат Гошки Лысова, обтрёпанная шинелка Толоконского и вытертый до мездры отцовский полушубок Мишки сквозили.
Мало приспособлена была для ночных экскурсий зимой и обувь патрульных – остатки валенок, скрепленные телефонной проволокой.
Поэтому патрульные не чувствовали в себе особой бодрости и, передвигая ноги, тоскливо прислушивались к урчанию в животах.
Настроение комсомольцев было далеко не романтичным. Но ходить нужно. Назвался груздем – полезай в кузов. Стал бойцом Части Особого Назначения [3] – топай ночью по улицам городка, набитого контрреволюционной нечистью, уцелевшей от разгрома и вновь пополняющей обывательские клоповники. Ходи, чутко ощупывая стволом трехлинейки покосившиеся заборы и заснеженные палисадники. Ходи, рискуя получить пулю в спину, в висок, в живот! Ходи! Ибо – ты чоновец, страж революции.
Поэтому, когда Мишка Мирошниченко в перекуре сказал заманчиво: «Тут, за углом, знакомые живут… Хорошие люди. Может, погреемся? Давайте обсудим», – старший патруля Лысов ответил язвительно:
– Конечно, обсудим твое предложение. На бюро! – прикрикнул: – Разговорчики! Айда, полный вперед!.. – и выпустил полузаряд крепкой матросской ругани.
Надо сказать, что в ту далекую теперь от нас пору комсомольцы Гошка Лысов и его сподвижники были не шибко искушены по части эстетики, до хорошего доходили больше интуитивно и грамотностью особой не отличались.
Они, например, понятия не имели о существовании поэта Блока. Однако хорошо знали, что «неугомонный не дремлет враг»; в учреждениях таинственный Дядя Ваня грозит в подметных листках коммунистам лютой смертью и призывает выписываться из партии; на рельсах найден разрезанный поездом пополам труп железнодорожного комиссара, при осмотре тела в спине обнаружены три пулевые раны…
Кто-то невидимый каждую ночь давал о себе знать.
И чоновско-комсомольский патруль мерз, но продолжал твердо держать «революционный шаг», один посередке улицы, двое по сторонам, – с винтовками на изготовку.
Ночь казалась бесконечной… На пожарной каланче пробили три удара, когда от одного из домов на Омской улице внезапно оторвалась лиловая тень и, не ответив на оклик патрульного Толоконского, метнулась через дорогу.
– Стой!
Гошка вскинул винтовку. Буранную муть пронзила желтая молния, и ветер мгновенно погасил сухой треск; но озябшие пальцы матроса не справились с прицелом – пуля впилась в фонарный столб, а лиловая тень стала вдруг длиннорукой, татахнула и трижды выбросила огненные иглы в бежавшего наперерез Мишку. Мишка ойкнул, повалился в снег, и тогда Гошка, с колена, еще дважды ударил по прыгавшим в буранной мгле золотым искоркам.
Тень уменьшилась в размерах, превратилась в черный ком и застыла возле палисадника.
– Готов, гад! – Гошка, ожесточенно выбрасывая последнюю стреляную гильзу, напустился на подбежавшего Леньку:
– А ты почему не стрелял?!
– Осечка, – виновато сказал Ленька.
– Смазку не вытер? – И Гошка сгоряча трахнул Леньку в ухо.
Ленька тоже выругался, всхлипнул, и они подбежали к Мишке.
– Живой? Здорово он тебя? Куда?
– Живой… – слабым голосом ответил Мишка, – в ногу. Стоять не могу, – и с удивлением констатировал: – А так вовсе даже и не больно…
Раненому перетянули ногу выше колена ружейным ремнем.
– Ленька, беги на вокзал, звони в штаб, чтобы – подводу! – скомандовал Гошка и, старательно выцелив, послал еще одну пулю в сгусток черноты у палисадника. Для пущей верности.
В штабе ротного участка ЧОН, что помещался в бывшем ресторане на Гудимовской улице, фельдшер перевязывал Мишку, а Гошка и Ленька грели у камелька синие распухшие пальцы и слушали доклад дежурного по ЧОНу прибывшему на происшествие оперативному комиссару Губчека Матвееву:
– При убитом командировочное предписание на имя сотрудника Сибопса инженера Стеблева и… партийный билет. Вот как сошлось…
Сотрудник Чека покосился на Гошку. Тот отвел глаза. Фельдшер, закончив перевязку, заявил Мишке:
– Вообще – ничего нет опасного для жизни. Сквозное ранение из ливорверта в область мыщц левой ноги, – и, щеголяя эрудицией, досказал юридически: – Ранение относится к разряду менее тяжких.
– Ты мне зубы не заговаривай! – сурово прервал раненый. – Скажи: отрежете ногу? Прямо говори – я не боязливый.
– А ты не встревай, когда медик обсказывает!.. Еще набегаешься на двух. Лучше сам скажи: куда тебя направить отсель? В больницу, аль домой?!. В больнице-то тово… Топлено слабовато. Опять же насчет жратвы – одна овсянка. «Иго-го-го»…
– Домой, – кривясь от боли, сказал Мишка, – у нас корова.
Чекист разрешил отправить раненого и с иронией посмотрел на Лысова.
– Ну, стрелок, рассказывай, как было дело. При каких обстоятельствах совершил убийство этого… как его? – члена партии, товарища Стеблева?
Гошка рассказал. Рассказав, потупился и спросил глухо:
– Оружие тебе сдать, товарищ Матвеев, или в комендатуру?
Оперкому стало жаль парня. Положил руку на Гошкино плечо:
– Обожди с оружием! Особо не тоскуй, ты все ж по уставу действовал – первый, предупредительный, дал в воздух. Запомни это. Напарник, подтвердишь?
Ленька с готовностью вскочил с табуретки.
– Обязательно! А тот – ни с того ни с сего – в Мишку! – и тревожно спросил: – А Гошка, что же, – в трибунал? Я свидетелем пойду, неправильно это!
– Тебя больше не спрашивают – ты не сплясывай! – грубо перебил чекист. – Товарищ дежурный, давай дальше: что снято с убитого?
Дежурный выдвинул ящик стола.
– Вот: наган номер 138451 Тульского завода, в ём пять патронов, два целых… Еще – бомба. Называется – граната Мильса, с капсюлем. Заряженная, стал-быть…
Брови чекиста приподнялись:
– Граната, говоришь?
– И еще – вторая граната. Тоже с капсюлем. Второй револьвер: система браунинг… При ём обойма. Все патроны целы. Восьмой – в стволе… И еще – гаманок. Бумажник, то ись, с пропуском в Томск, по железке, по форме.
– А ну, дай-ка…
Чекист развернул сложенную бумажку и вдруг развеселился.
– Эге! Стоп!.. Лысов, держи башку выше – не печаль хозяина!.. Так, говоришь, заместо словесного пароля стал палить в вашу компанию? Так, так…
Дежурный продолжал выкладывать на стол:
– Часы серебряные с подцепком. На крышке написано: «За отличную стрельбу».
– Зря написано! Верно, Лысов, а? – тут чекист зачем-то подмигнул Гошке.
– Последнее, – бубнил дежурный, – кисет шелковый, голубой, в ём полукрупка. Мокшанская. В махорке монета, серебряный рубль, с двумя царями.
– Что-о-о?! – рявкнул Матвеев. – А ну-ка, ну-ка…
Повертев в руках рублевик, чекист проделал нечто, заставившее всех в дежурке ошалело хлопать глазами: сперва яростно притопнул валенком, словно собираясь пуститься вприсядку, потом стукнул дюжим кулаком по столешнице, нахлобучил на глаза Гошке шапку, щелкнул по носу Леньку Толоконского и стал названивать по телефону:
– Барышня! Барышня! Чтоб тебя язвило, барышня!.. Где тебя черти унесли?… Ага! Спишь, красавица! Вот сядешь в подвал – там отоспишься! Давай сюда комиссара!.. Что? Разбудить немедля! Скажи – из Чека.
Пока на телеграфе ходили будить комиссара, оперпом вновь стал вертеть в пальцах рублевик. Лицо Матвеева сияло, светилось восторгом, как будто в руках его оказалось невесть какое сокровище.
Зазвонил телефон.
– Ты, Никифор Кузьмич? – развеселым голосом спросил чекист. – Вот чего: сей же час, сию минуту, всю смену выгони из зала к чертям собачьим! Садись сам и соединяй со вторым номером, поскорее! Да Митя же Матвеев! Не узнал, что ли? Скорей, действуй! Жду, не вешаю трубку, я из ЧОНу звоню, из штаба.