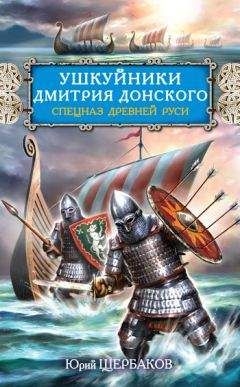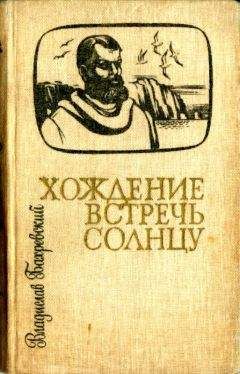Дмитрий усмехнулся невесело.
– Дозволь, княже, слово молвить, – встал с лавки Федосий Лапоть. Боброк посунулся ко князю:
– То самострельщик знатный. Десяток татаровей зараз истребил!
Дмитрий кивнул.
– Ты, княже, Ольга рязанского помянул. Дозволь и мне помянуть. Рязанци же люди сурови, сверепы, высокоумни, горди, чаятелни, вознесшеся умом и возгордешеся величием, и помыслиша в высокоумии своем палоумныя и бездумныа людища, аки чюдища…
– Ты летопись сию ведаешь? – удивленно вопросил Дмитрий.
– Ведаю, княже. Токмо мню, инако надобно ту сечу описывати. Сильнейшим бысть над сильным, мудрейшим бысть над мудрым – в том с древних времен доблесть и слава княжеская! Егда б не начертано было о храбрости воев хазарских, откуда спознали б мы о величии Святослава киевского? Такоже и твоя победа над войском рязанским выше б стала! Велика ли честь поразить ворогов, ежели они падоша мертвыя, аки снопы, и, аки свиньи, заклани быша?
Дмитрий, нахмурившись, задумался. Злая сеча случилась три лета назад под Скорнищевом. Люто бились рязанцы, а москвичи того лютее! Сколь русской крови из‑за той Лопасни пролилось. Дмитрий горько вздохнул, глаза поднял на повольника.
– Так ты самострелом али пером служить Москве станешь?
– Одно другому не помеха. Что на рати спытаю, то и запишу. Верю, доведется деснице моей начертать слова о великой победе воинства твоего, княже, над нечистью татарской!
Дмитрий порывисто встал. Поднялись с лавок и новгородцы.
– Ну, коли так, – голос князя взволнованно дрогнул, – послужите делу русскому!
– А ты постой, молодец, – окликнул он Горского, вслед за товарищами выходящего из гридни.
С окрыленною душою покидал часом погодя княжьи покои Петр Горский. Так и полетел бы по слову Дмитрия на родимый Волхов. Поверил князь и дело дал, да и какое дело! Одна статья – купцов малой ватажкой шарпать, вовсе иная – общей ушкуйной силой Сарай на щит взяти!
«Сговорю на то братов-атаманов, как есть сговорю!»
Раздумавшись, Петр зацепил каблуком высокий порожек и, птицей слетев с крыльца, остоялся, ахнувшись грудь о грудь с дородным чернобородым боярином.
– Куды прешь, холоп! – боярин ожег Горского лютыми вепрьими глазками. Из-за спины его, подсучивая рукава, выдвинулись ражие челядинцы.
– Кому холоп, тому и в лоб. – Петр положил руку на сабельную рукоять. С боков стали дожидавшие атамана во дворе Иван Святослов и Заноза. Свары, однако, не получилось. Обиженно посопев, боярин оглядел изготовившихся к бою повольников и молча двинул ко крыльцу.
Семен Мелик, издаля зревший нечаянную стычку, поспешил к новгородцам.
– Ведаешь, с кем схлестнулся? То сын покойного тысяцкого – Иван Вельяминов. Седни государь порешил не ставить его в отца место. От и злует боярин. А и малой обиды не прощает Вельяминов. Будет теперича у тебя, друже, знатный недруг!
– Дак ведь не токмо у меня у одного, а и у князя самого!
Как в воду глядел Горский! И о те минуты, пока шли ватажники неспешно московскими улицами к Семенову дому, порвались остатние нити приязни меж Дмитрием и наследником роду Вельяминовского.
– Одумайся, княже! Перемени суд неправедный, – не просил Иван – требовал, посохом отцовским пристукивая. – Не воздалось бы тебе сторицею за кривду ту!
– Не будет того. Княжья воля моя неизменна есмь! – побледнев, как перед сабельной сшибкой, отмолвил Дмитрий.
– А ежели так, ежели не бывать мне тысяцким, то не бывать и тебе Великим князем Владимирским!
Дмитрий гневно прянул на ноги:
– Окстись, брат! Не покойный ли родитель твой и матерь моя единокровными были братом и сестрою? Токмо воспоминая то, отпускаю тя ныне с миром. Но берегись! Не дерзостный язык на плаху вдругорядь ляжет, а голова спесивая!
Теперь смертно побелел зарвавшийся боярин.
– Прости, государь!
– Бог простит, – сурово отмолвил князь и рукой махнул, будто отметая разорванную навеки былую дружбу.
Как вода на Москве-реке, покойно и неприметно текут над белокаменным Кремником осенние дни. Неприметно и Покров подошел, досыти натешив княжьих дружинников на веселых московских свадьбах. Приобвыклись новгородцы на новом месте и не равняют боле: куда, мол, Кремнику супротив новгородского Детинца али Спасу на Бору супротив Святой Софии! Свое здеся все, родное, русское.
Как и в Новгороде, сожидают у храма доброхотного подаяния юроды, калеки да нищие. Не скупится Дмитрий, раздает Христа ради милостыню убогим. Лезут в тугие калиты и бояре, отстоявшие со князем вечерню у Спаса на Бору. Серебрятся на морозном воздухе полушки, яко первый снег на белых ступенях. Мир и спокой над православным людством. И пускай кривою татарскою саблей занесен над соборною главою заиндевевший месяц. Пото и одевают на Руси храмы в золотые воинские шеломы!
Как узрел Горский на сумеречной паперти хищный блеск тяжелого метательного ножа? Да и узрел ли? Будто неведомая сила толкнула его заступить собою князя и грудью принять смертельное железо. И кольчугу просадил бы такой удар. А нательный кованый крест отвел точеное жало, и, пропоров на теле новгородца кровавую борозду, выщербило оно с лязгом белый камень ступени.
Никто и охнуть не успел, как ринувший вепрем в толпу убогих Иван Святослов могучим рывком метнул с паперти неведомого татя. Неласково приняла его московская земля, горбом выставив встречь каменную от мороза спину. И грянулся он навзничь, утопив последний хрип в черной струйке крови, хлынувшей в завитки курчавой бороды. Эх, перестарался Святослов! Одному лишь богу ведомо теперь, от которого из княжьих недругов принял душегуб поганые сребреники…
Первую кровь пролил за князя московского удалой атаман. Много ее расплескалось, покуда несли Петра в княжий терем, покуда заливали рану пахучим медвежьим жиром да перевязывали погодней чистыми тряпицами. Не чуял того Горский, ибо вползла в опустевшие жилы змея огнедышащая Горячка и без малого на неделю замглила сознание. Не видел новгородец, как суетились круг него княжьи слуги, как приходил к раненому на погляд сам Дмитрий, как в вечерней сутемени водил руками над раною, будто слепой, ведун Боброк. Далеко была в ту пору душа воина. Вольной чайкой парила она над батюшкой Волховом, поделившем Новгород на старые и новые концы, над каменной мощью городовых стен и детинца, над золотыми маковцами церквей. Далеко видно с той высоты – и серое Нево-озеро, и голубой Ильмень, да тянется душа не к горним высям, а к щепяной крыше старого подслеповатого домишка на Плотническом конце. Под этой крышею и повестила впервой душа раба божьего Петра, что явилась в суровый мир, где все мы – гости. Да и не раз норовила душа оборвать гостеванье под этим кровом и с дымом печным выпорхнуть в узкое волоковое оконце. Не здесь ли плакала над Петром матушка, когда лежал он, весь опухший от укуса водяной гадюки, подсунутой мальчонке лукавым Водяным заместо клешнятого рака, когда лежал, татарской саблей порубанный в первом ушкуйном походе. И не молитва истовая, и не колдовской оберег, а горючая материнская слеза удерживала расправляющую крылья душу в грешной оболочине. И матушки уж давно нет, а все жжет щеку заветная охранная слеза.
Петр открыл глаза и не враз осмыслил, чье заплаканное лицо опрокинулось над ним в неверном свете оплывшей свечи. Сознание мглилось, и казалось, стены горницы плывут круг робкого огонька в нескончаемом хороводе. Горский перемог себя, выдохнул:
– Дунюшка!
И – сразу утихло мельтешенье, и заслонило весь мир ласковое девичье лицо с невыплаканными еще, но уже мгновенно посчастливевшими глазами:
– Очнулся, любый!
Вот уже и сказано оно, самое главное слово. И не соромно говорить его девичьим устам, ибо множество раз шептали они то слово, покуда трепали Горского разбойные братья – Жар и Бред.
Чудеса делает с человеком любовь! Старый ведун, пользовавший Петра по княжьему слову, только головою покачал, когда через три дня всего встал повольник на ноги и, хотя качало его, как осину зимним ветром, вышел во двор. И – как ослепило его! В сияющие под солнцем шубы сугробов одела Москву за дни его болезни портниха Зима. И слышно, как весело гомонит на проулке ребятня, бездумно перекидываясь снежками. Вельми сладка кажется жизнь после незабытого дыхания смерти!
Петр жадно глотал морозный воздух, и с каждым глотком будто вливалась в него утраченная сила. Пото и не увидел сразу князя и Боброка, сошедших во двор с красного крыльца. А они уж близились, размахнувши для объятия руки.
– Оклемался, брат? То и любо! – не державной мудростью, а доброй заботой веяло от слов Дмитрия. Князь порывисто сорвал с пальца тяжелый перстень, где спелую вишню камня агата зажали лапами ошую и одесную диковинные золотые звери, протянул Петру:
– То мой поминок, друже. А дарю тебе еще терем возля Меликова подворья. Токмо ить туда с жонкой нать.