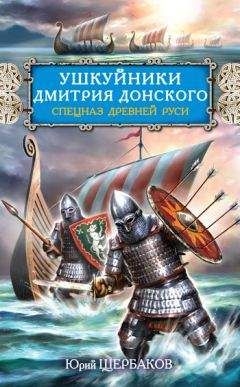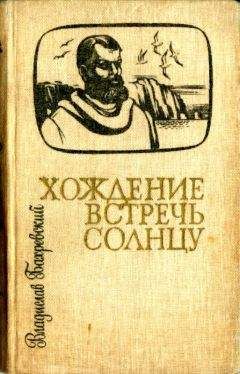Юрий Щербаков
Ушкуйники Дмитрия Донского. Спецназ Древней Руси
«Хощу Вам, братие, брань поведати новыа победы, како случися на Дону великому князю Димитрию Ивановичю и всем православным христианом с поганым Мамаем и з безбожными агаряны. И възвыси бог род христианскый, а поганых уничижи…»
Сказание о Мамаевом побоище
На Руси стояло бабье лето. Лоси выходили на лесные опушки и трубили, не соперника вызывая на бой, а от распирающей могучие груди особенной ясности и понятности всего сущего окрест. Торжественный рев набатом плыл встречь солнцу, которое и само, будто мудрый сохатый, выходило на прозрачные небесные луга с задумчивою неспешностью. Под его тяжкими копытами с неохотой тает младший братец боярина Снега – торопыга Иней. Уходит он в небо легким паром, с одинаковой тоскою оставляя и венцы теремов, и соломою крытые кровли. Любо ему слушать всю ночь, как сверчки в запечье поют, как сладко жонки постанывают от мужней ласки. На то оно и бабье лето, чтоб мужиков любить-голубить. Спокойное, сытое сердце в такую пору у русских людей. Есть с чем в клетях да амбарушках встретить Покрова, когда совьет сиверко серебряный шнурок поземки и приведет на нем в лесной край белогривую зиму.
То – будет, а сейчас полнятся людские сердца зрелой силой познания своей доли. Обо всем и обо всех думается в такую пору прозрачно и ясно. Лишь о хищном посвисте черной татарской стрелы думать не хочется. А как не думать? Знают степняки, когда хлынуть изгоном на Русь. И превращает тогда злая татарка-судьба для рязанских, нижегородских, московских ли жонок бабье лето в последнюю бабью осень. И голосят они, бредя за хвостом разбойничьего коня, и горек их плач, как степная полынь-трава…
Сколько ж их, сирых, видел нынче в Орде Петр Горский! Не пустует в Сарае великое торжище, и не главный ли на нем, как матка в улье, майдан, где продают самый дорогой товар – рабов. Не хлопотливые пчелы – хищные осы со всего света слетаются сюда на запах поживы. Немереными слезами да кровью вымоченная, несчетными ногами вытоптанная, воистину каменной стала здесь земля, но и она нет-нет да и содрогнется от истошного крика юной полонянки, у которой при свидетелях-видоках дотошные купцы из Кафы, из Хорезма, а то и из вовсе неведомых краев руками норовят проверить: за добрый ли товар отсыплют монеты, не сорвали ли похотливые грабители нежный бутон невинности? Сколь раз тянулась у Горского гневная рука к мечу! Да у него ли одного. Новгородские ушкуйники – народ вольный, а потому и чужая неволя для них – нож вострый. Да не для всех, ох не для всех. Как грязная пена с волховских берегов, прибиваются к сарайской пристани душегубы, каких свет не видывал. Своих – костромских, угличских, тверских – красавиц выставляют напоказ ожадевшие тати.
Хотя кому они свои? За воровство и разбой имают их и княжьи дружинники, и ханские нукеры, и булгарские кмети. И то сказать – ни одного купца не пропустят на Волге Смолнянин али Прокоп. Любит их за это Водяной – не разбирая веры, отправляют они в подводное царство вечных подпасков – неисчислимые рыбьи стада стеречь. То ли дело – Алексаша Обакунович! С презрением смотрят его ватажники на гуляк – христопродавцев. При случае и сами чинят над ними скорый и правый суд. Правда, охулки тоже на руку не кладут. Так ведь на то и купецкий ларь, чтоб был при нем молодец-звонарь, а коли нет звонаря того, жди ушкуйника самого! Бывает, и своих пограбливают, но чтоб живота лишать, да русских дев в ясырок превращать, тьфу, не приведи господи! Одначе чужой грех, да липнет на всех. Потому, аки татар, черным словом поминают ушкуйников и на Волге, и на Каме, и на Оке, и на других больших и малых реках, куда могут по весенней, летней ли воде стрелами вонзиться смоленые ушкуи новгородских повольников.
В древние еще времена переняли сноровку эту волховские сорвиголовы у воинственных соседей-нурманнов. Напасть врасплох, ошеломить, подмять – нарочитая повадка северного медведя – ушкуя. Вся‑то разница – что мишка кожу норовит с головы содрать, а человек – тяжелую денежную кису с пояса! А увесиста она у булгарских купцов была. Увесиста, да полегчала! Тремястами рублями только и откупились они нынче от ушкуйников. А не то разлетелся бы горьким пеплом по ветру ордынский город Булгар! Любо Петру вспоминать, как вломились с трех сторон повольники в город, как без меча – испугом одним – одолели сторожевых латников, как выпустили на волю всех русских полонянников, увиденных на торгу, как, руки к сердцу прижимая, приволокли серебро купцы булгарские. Велик прибыток! Еще десять раз по стольку, и можно за московского князя Димитрия платить годовой ордынский выход!
То шутка, только как бы властный князь не сготовил северным шутникам вервие пеньковое али палаческую секиру. Давно ли хаживали на Волгу без новгородского слова Александр Обакунович, да Осип Варфоломеевич, да Василий Федорович с ватагою? Димитрий – вьюнош тогда – живо мир с вечниками порвал, и пришлось ему, новгородской старшине, не с пустыми руками кланяться: «Ходили‑де люди молодые на Волгу без нашего слова, но твоих гостей не грабили, били только басурман, и ты нелюбье отложи от нас». Хорошо, гривнами умилостивили князя, а могли бы и повольницкими головушками. Шестью летами раньше тако и случилось, когда велено было великим ханом князьям суздальскому, нижегородскому и ростовскому имать ушкуйников, пограбивших Жукотин, и свезти в Орду на лютую казнь. Но времена не те. Высоко несет голову пред татарами князь московский. А все ж опасаются нынче новгородцы явно величать себя ушкуйниками. Хорошо расторговались они в Сарае булгарской добычей. И порешила малая ватажка Горского – чем огребаться по Волге, а там волоками и озерами на север, прикупим коней, да по Дикому полю, да по княжествам русским купцами поскачем. А купцу – ему и в Москву дорога не заказана! На коне сидеть любой из дружинки Петровой с мальства обучен, доспех у каждого – княжьим под стать. Будет дорога колесом!
И вот уж третий день едут повольники рязанской землей, скоро и на московский берег придется перевезтись.
Горский с трудом, как сладкую дрему, стряхнул с себя светлую задумчивость, будто сплетенную легкими паутинками бабьего лета. Сзади негромко пересмеивались дружинники. Петр придержал коня, прислушался.
– Братие, не постиг! Вразумите мя! Был Федос бос, до Рязани добрался, босым остался, что деял в Сарае – не знаю…
Дружным хохотом покрыли ушкуйники ладную скороговорку ватажного острослова Петра Занозы.
– Ну, поведай, Федосий, поведай, почто не взял ты в Орде добрые порты? Ить в твою пестрядь срамное место видать!
Горский, не оглядываясь, представил неразлучную пару – ражего, краснощекого Занозу и его всегда печального, не богатого телом побратима Федосия Лаптя, который с покорством древнего схимника сносил зубоскальство едущего обочь товарища.
– Помыслить тщусь: почто за тое рукописание отдал ты на сарайском торжище без малого всю походную долю? Мог шелом добыть али панцирь, моему под стать. Был бы ноне, как князь, золотом осиян! Отмолви, Федосий.
– Аз отмолвлю притчею из тоего рукописания. Человек некто, видя идуща к себе лютаго зверя лва, потече по полю борзо, во велик ров впаде и ухватися за древо. Возревши убо, виде две мыши, черную и белую, ядуща беспрестанно корень того древа. Возревши во глубину рва, виде змея страшна образом, и четыре главы аспидовы, из стены исходящи, и мед, из ветвий древа того текущий. Забыв одержащих его напастей, возжелал человек себе на сладость оного меду.
– Погодь, книгочей! Где в притче истина?
– Не уразумел? Аз тако мню: зверь лев – сиречь смерть, ров – то мир, полный бед, древо – жизнь, снедаемая днем и ночью, главы аспидовы – то стихии, из коих создано тело человеческое, змей же – чрево ада, алчущее поглотить его. Мед есмь утехи, кои отвлекают смертных от спасения души.
– Эва нагородил слов, не разгородишь! Аз не верую ни в сон, ни в чох, ни в братнюю молитву, одному зелену вину кланяюсь до земли! А грехи наши молить – не замолить. Вона – не за наши ли души звонарь старается?
Вдали, над шеломами могучего леса, стиснувшего неширокую – о двуконь – дорогу, слышался слабый колокольный голос.
– Эх, и оскоромимся ж мы сегодня, братие! Это Завидово – село нам знак подает. Девки, жонки тута – всей округе на зависть! Потому и Завидово! – Бражник и женолюб Овсей Куница в нетерпении привстал на стременах. Да и другие ватажники приосанились в седлах – не кто‑нибудь – повольники самого Великого Новагорода едут!
Скоро, однако, бесшабашное веселье на лицах ватажников стерло настороженное ожидание. Кто-кто, а уж бывалый ушкуйник из тысячи запахов отличит один – дымный запах удачного набега. С каждым шагом по лесной дороге он становился все нестерпимее – запах дотлевающего жилья, обрызганного человечьей кровью. А колокол все бил и бил, силясь чугунным своим языком разнести по свету людское горе…