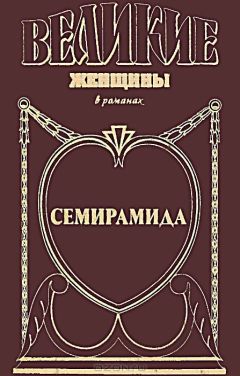В последнюю очередь за бесценок пошли самые никчемные, и в этой толпе полностью обнаженных уродин и калек Сарсехим обнаружил Гулу.
Сердце у него упало. Он тихо, стараясь остаться незамеченным, выбрался из толпы и преследуемый застрявшим в памяти видом исполосованного, с чуть зажившими рубцами, худого, с огромными высохшими грудями тела, поспешил в сторону постоялого двора. Никакой, даже самый въедливый, самый совестливый разум, не смог бы заставить его приобрести эту ведьму, пусть даже и прошедшую огонь и воды, пусть даже превратившуюся в искалеченное животное, пусть даже наказанную сверх всякой меры. Пусть даже за бесценок! Он знал, с кем имеет дело, и тратить деньги на то, чтобы вернуть в мир живых воспитанницу Эрешкигаль, было неслыханным безрассудством.
Нет, нет и нет, поспешая прочь, уговаривал он себя. Спасти демоницу, значит, потерять остатки разума.
Все равно, жалость брала свое. Он помнил Гулу младенцем – ему приходилось помогать повитухам принимать роды у Амти–бабы. Он помнил ее маленькой, нарядно одетой девочкой – она была прелестна, как маленькая кукла, которой впору играть отпрыскам богов. Он помнил ее вступающей в зрелость девицей – в те незабвенные дни Гула даже у евнухов вызывала вожделение и смертные муки от сознания невозможности обладать такой красотой. Он вспомнил, как она появилась в Дамаске, вспомнил хмыканье Бен–Хадада…
Зачем упрекать великого царя в слепоте и похоти?! Какой мужчина на его месте удержался бы от хмыканья!
Евнух вспомнил раскинувшуюся на царском ложе полуобнаженную красавицу – Гуле всегда было плевать на евнухов, а его, Сарсехима, она вообще за человека не считала. В ней было все, что способно приковать взгляд мужчины. Любая часть ее тела, которую она намеренно оголяла, вызывала неудержимый прилив желания, и, если Буря и Ардис удивлялись, как воины смогли позабыть присягу и изменить великому царю ради какой‑то «шлюхи», для Сарсехима в этом не было тайны.
Далее вспоминать было невозможно.
Немыслимо!
Легче повеситься, чем вернуться к тем бредовым снам, которые допекали его в молодости, когда в качестве младшего евнуха ему приходилось прислуживать гаремным дамам в бане и возле бассейна.
Это была пытка, впрочем, недолгая и рассудочная, но от этого она не становилась менее пыткой. Черед соблазнительных снов пришел, когда у Гулы начались месячные. Как‑то она почувствовала недомогание, и Сарсехиму приказали изучить ее девственное лоно. Заглянув туда, он едва не лишился разума, наградившего его мыслью, что было бы великой удачей прогуляться по этой темной, кроваво освещенной пещере. То, что он увидел, являлось именно запечатанной колдовским проклятьем пещерой, заманивающей, внушающей неодолимую похоть.
Это у дерзкой скифянки был сосудик! Это он первый в насмешку окрестил Шаммурамат «дырявой чашкой», потому что дикарка, впадая в ярость, писалась. Шаммурамат страшно возмущалась и на всякого, кто позволял себе назвать или оскорбить ее этим гнусным прозвищем, бросалась с кулаками. С ней предпочитали не связываться. Его товарищам из евнухов, в большинстве своем грубым мужланам, приученным своим уродством ко всяким гадостям и постыдному обращению с женщинами, было достаточно издевательств над впавшими в немилость наложницами.
Куда они только не совали руки! Об этом не хотелось вспоминать.
С Гулой было другое. Он почему‑то сразу и напрочь уверился, что именно в ее аккуратной и пахучей пещере таилась великая тайна, которая способна вернуть ему, несчастному уроду, естественное мужское состояние. Вернуть жажду любви, удовольствия, возникающие при трении тела о тело. Вернуть жажду поцелуев, которыми он был готов осыпать толстушку и, прежде всего, ее лоно. Проникнуть туда языком, поводить там и, наконец, испить живительную влагу женского тела – вот чего ему безумно хотелось.
Эта мечта преследовала его с полгода. В ту пору он впервые взял в руки остро заточенную палочку, начал карябать что‑то на сырой глиняной табличке.
Только жить я начал – прошло мое время!
Куда ни гляну – злое да злое!
Растут невзгоды – а истины нету!
Воззвал я к богу – лик отвернул он,
Взмолился богине – главы не склонила.
Жрец–прорицатель – не сказал о грядущем,
Вещун волхованьем – не выяснил правды…
Ясновидца спросил – и он не понял.
Обряд заклинателя – не отвел моей кары.
Что за дела творятся в мире!
Я в грядущем вижу гоненья и смуты!
Как тот, кто молитвой – не славит бога,
В трапезы час – не чтит богиню,
Не склоняется ниц – не бьет поклоны,
Чьи уста забыли – мольбы и молитвы…
Кто беспечно забыл – своего господина,
Бездумно клялся – святою клятвой –
Так и я ниспровергнут!
…
Я не умер еще, – а уже оплакан!
Вся страна восклицает: – «Погиб он, горе!»
Враг мой слышит – светлеет ликом,
Ненавистница слышит – ликует сердцем!
Угасает день для всех моих близких,
Для друзей моих закатилось их солнце! * (сноска: Перевод В. Афанасьевой. (Из книги «Я открою тебе сокровенное слово. Литература Вавилонии и Ассирии. Худ. лит. М. 1981. С. 217)
Эта табличка попалась на глаза Мардук–Закиру–шуми, и с тех пор царь приблизил к себе молоденького Сарсехима. Закир тоже увлекался поэзией, особенно деяниями древних героев. Так началась карьера евнуха, ведь именно Сарсехим утешил правителя Вавилона лукавым советом – о, царственный, время Гильгамешей, Атрахасисов и Этан17 прошло, теперь героическими подвигами, оберегающими мир живых от посягательств мира мертвых, можно считать заламывание рук с мольбой о пощаде и своевременное ползанье на коленях. Таковы нынешние времена, таковы современные нравы! Последний тезис евнух объяснил наглядным примером: я, о, могущественный, ползаю перед тобой, ты – перед извергом Салманасаром.
Стихи, вернее, нестерпимая тоска по написанным когда‑то строчкам, принудили евнуха остановиться. Он постоял, потоптался на месте, затем принялся рыскать вперед–назад, пока, не в силах справиться с укусами памяти, не потащился в сторону Воловьих ворот. Старался помедленнее переставлять ноги и со слезами на глазах утешал себя – может, денег не хватит, – но и эта надежда рухнула, когда он увидал опустившую голову Гулу и еще двух ее товарок, одна из которых была едва ли не столетняя старуха. Этих никто не купил, так что хочешь не хочешь, съязвил он про себя, а выкладывай денежки.
Евнух полез в потайной карман за кошельком, в этот момент чьи‑то сильные руки грубо обхватили его, поволокли куда‑то в сторону. Там накрыли с головой чем‑то пропахшим ослиной мочой и сунули в повозку.
Страха не было, но и запах мочи радости не прибавил.
Везли недолго и, судя по стуку колес, по городским, мощенным улицам. Наконец повозка остановилась. Его также бесцеремонно вытащил из кузова, обнажили голову. Вокруг высились громадные стены, замыкавшие просторный двор. По стенам расхаживали часовые, внизу, у подножья, хозяйственные строения. Двор был царский, у Сарсехима на этот счет глаз был наметанный. Значит, его доставили в цитадель, возвышавшуюся над городом на насыпном основании и отличавшуюся от городских построек особенно циклопическими размерами.
Здесь, в цитадели, как и повсюду в Ассирии, царствовали гигантские объемы, ограниченные внушительными прямыми углами. Единственным украшением служили фестоны крепостных зубцов, арочные проходы, а также длинные барельефы и статуи священных быков о пяти ногах. Еще в Вавилоне знатоки убеждали Сарсехима, что только так можно передать ощущение движения, ведь небесные быки никогда не стоят на месте. Взгляни на них, твердили они, с любой стороны, и ты убедишься – шеду шагают. Евнух и так и этак рассматривал священных быков и видел только частокол ног. Может, потому, что для него было куда важнее знать, куда они направляются? Кого собираются поднять на рога?
Сейчас, правда, было не до отвлеченных вопросов. С той же бесцеремонностью его поволокли к боковому входу. Там, уже более вежливо, повели длинным, освещенным факелами коридором, упершимся в окованную красной медью дверью. Как только шагающий впереди воин приблизился к двери, она распахнулась.
Сарсехима втолкнули внутрь.
Менее всего он ожидал оказаться в спальне, но это была именно спальня, и с этим ничего не поделаешь.
В комнате стоял полумрак, зыбкий свет дарили несколько, заправленных очищенной нафтой светильников. Посреди располагалось широкое ложе, прозрачные занавеси были подняты. На ложе нежилась красавица. По ее позе трудно было признать ее нуждающейся в услугах лекаря, скорее, она устала от бесчисленных любовных мук.