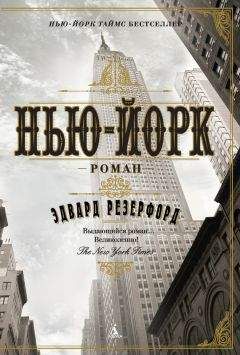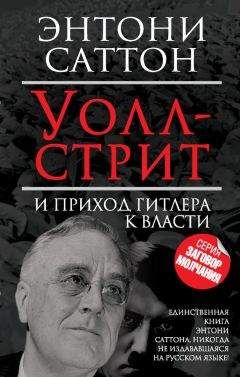Джон Мастер назвал их сынками свободы. Порой они действовали убеждением, порой – силком. Однажды вечером, когда Джон и Мерси сидели на спектакле, толпа сынков свободы разгромила театр, сказав изумленным попечителям, что нечего развлекаться, когда весь город страдает. В другое время они патрулировали доки, следя за тем, чтобы никто не получал никаких товаров из Англии.
Уличные беспорядки привели в ужас провинциальную ассамблею; она выделила майору Джеймсу щедрую компенсацию за уничтоженное имущество и всячески постаралась утихомирить сброд. Хотя она разделилась на две основные фракции, два лидера последних, Ливингстон и Деланси, были джентльмены богатые и дружные с Джоном Мастером. И каждый сказал ему: «Нам, джентльменам, придется приструнить так называемых сынов свободы». Но это было не так-то просто.
Альбион немного обнадежил Мастера. Английский купец сообщил, что упрямого Гренвилля заменили новым премьер-министром – лордом Рокингемом, который сочувствовал колониям и хотел отказаться от Акта о гербовом сборе. Другие были настроены так же. «Но сейчас их настолько донимают радикалы и наш собственный лондонский сброд, что они боятся пойти на уступки, которые покажутся слабостью. Посему наберитесь терпения».
«Скажи это сынкам свободы», – подумал Джон.
Ему пришлось выдержать еще шесть недель, пока не прибыл наконец корабль, принесший новость: парламент отменил акт.
Город ликовал. «Сыны свободы» назвали это победой. Ассамблея постановила воздвигнуть на Боулинг-Грин новую великолепную статую короля Георга. Купцы возрадовались возобновлению торговли. Мастера поразило, как быстро изменились народные настроения.
Но Джон Мастер, хотя и был рад новостям, не мог возрадоваться всей душой, ибо тот же корабль доставил письмо. Оно было от Джеймса.
Мой дорогой отец!
Поскольку в скором времени я завершу обучение в Оксфорде, возникает вопрос, что делать дальше. Мистер Альбион предложил мне – если я пожелаю и будет на то родительское согласие – какое-то время поучиться у него основам нашего бизнеса. Как ты знаешь, он на широкую ногу торгует не только с американскими колониями, но и с Индией и большей частью других областей империи. Хотя я тоскую и стремлюсь вернуться в лоно семьи и снова быть с вами, я не могу не признать, что мы значительно выиграем, если на какое-то время я останусь здесь. Мистер Альбион готов меня приютить. Но я, разумеется, буду во всем подчиняться родительской воле.
Твой послушный сын
Джеймс.Прочитав это письмо у себя в кабинете, Мастер проходил с ним несколько дней, не спеша поделиться с женой. Он хотел сперва обдумать все сам.
Прошла без малого неделя, когда однажды вечером он вошел в гостиную, где сидели его обожаемая Мерси и крошка Абигейл. Он только что вновь перечел письмо и теперь задумчиво посмотрел на них. Вряд ли сыщется человек, который сильнее любил бы жену и дочь, подумал Джон. Однако он только сейчас осознал, как остро ждал возвращения сына.
Ему не приходило в голову, что Джеймс не захочет вернуться. Конечно, мальчик не виноват. Он горячо любил Лондон. И даже после отмена Акта о гербовом сборе еще неизвестно, как обернутся дела в Нью-Йорке. Возможно, Джеймсу лучше пересидеть в Лондоне.
Так что же делать? Посоветоваться с Мерси? А вдруг она потребует от Джеймса вернуться домой, хотя мальчик откровенно этого не желает? Нет, добра не выйдет. Джеймс вернется против воли и затаит обиду на мать. Пусть лучше решает сам, подумал Джон Мастер. Если Мерси поставит ему это в упрек – что ж, так тому и быть.
Но, глядя с грустью на жену и дочь, Джон Мастер не мог отделаться от мысли: увидит ли он сына вообще?
1770 годЮный Грей Альбион остановился на пороге. Джеймс Мастер улыбнулся ему. Мало того что Грей был ему как младший брат, Джеймса забавляла и вечно всклокоченная шевелюра Грея.
– Джеймс, ты идешь?
– Мне нужно написать письмо.
Когда Грей удалился, Джеймс вздохнул. Не так-то легко написать письмо. Хотя он всегда добавлял короткую приписку к отчетам, которые Альбион отсылал его отцу, ему пришлось со стыдом признать, что он уже год не писал родителям настоящих писем. Нынешнему лучше быть подлиннее, и он надеялся сделать им приятное. Однако истинную причину, побудившую его взяться за перо, он прибережет для конца.
Он сомневался, что она им понравится.
«Мои дорогие родители», – вывел он и помедлил. С чего начать?
Джон Мастер никогда не ссорился с женой, но в этот погожий весенний день был очень близок к скандалу. И как только ей в голову пришла такая мысль? Он выразил взглядом упрек, но на самом деле рассвирепел.
– Умоляю тебя – не ходи! – воскликнул он.
– Не может быть, Джон, ты это не всерьез, – ответила она.
– Неужели ты не понимаешь, что выставишь меня болваном, черт побери?!
Что тут непонятно? В прошлом году, когда его пригласили в приходское управление церкви Троицы, он был польщен. Должность была престижной, но и обязывала – не позволять жене открыто посещать собрания диссентеров. Пять лет назад это было бы не так уж скверно, но времена изменились. Диссентеры превратились в занозу.
– Пожалуйста, не богохульствуй, Джон.
– Ты моя жена! – взорвался он. – Я требую послушания!
Она помедлила, потупив взор и тщательно взвешивая слова.
– Прости, Джон, – сказала тихо, – но есть власть и выше твоей. Не запрещай мне внимать слову Божьему.
– И ты хочешь взять Абигейл?
– Да, хочу.
Джон тряхнул головой. Он предпочитал не спорить с совестью жены. У него и без этого довольно хлопот.
– Тогда ступай! – вскричал он гневно. – Но без моего благословения!
«И без моего „спасибо“», – добавил он про себя. Он отвернулся и показывал ей спину, пока она не ушла.
Взирая на мир весной 1770 года, Джон Мастер не сомневался в одном: еще не было времени, когда колония столь остро нуждалась в приличных людях с доброй волей и холодной головой. Пять лет назад, когда Ливингстон и Деланси заявили на ассамблее, что джентльмены должны обуздать сынов свободы, они были правы. Но сделать им это не удалось.
Главные фракции провинциальной ассамблеи давно уже разделились в большем или меньшем согласии с английскими политическими течениями. Деланси и его богатые англикане именовались главным образом тори и считали Мастера своим как члена приходского управления церкви Троицы, сын которого обучается в Оксфорде. Виги, предводительствуемые Ливингстоном и группой юристов-пресвитерианцев, могли ратовать за простых людей и противиться всему, что считали злоупотреблением королевской властью, но были все-таки джентльменами уравновешенными. У скромного, беспартийного Джона Мастера среди них было тоже много друзей.
И потому ему казалось очевидным, что если порядочные люди вроде него самого прибегнут к здравому смыслу, то этого хватит, чтобы навести порядок в колонии. Но ничего подобного не произошло. Последние пять лет явились бедствием.
После отмены Акта о гербовом сборе он какое-то – недолгое – время надеялся, что благоразумие восторжествует. Он был среди тех, кто заклинал ассамблею возобновить поставки британским войскам.
– Бог свидетель, – сказал он одному вигу, – что войска нам нужны, и их придется кормить, и платить им – тоже.
– Не могу я на это пойти, Джон, – прозвучало в ответ. – Дело принципа. Мы не согласовали этот налог.
– Ну так давайте согласуем!
Он понимал, почему лондонские министры приписывали колониям обструкционизм. Но почему лондонцы, в свою очередь, вели себя так заносчиво?
Их следующий шаг стал оскорблением. Его предпринял новый министр Тауншенд, который обложил пошлинами многие товары, включая бумагу, стекло и чай. «Новый министр – новый налог, – вздохнул Мастер. – Старая песня. Не пора ли сменить?» Однако занозой явилась заключительная часть. Деньги взимались не только на войска. Их собрались пустить на жалованье провинциальных губернаторов и их чиновников.
И нью-йоркские виги пришли, разумеется, в ярость.
– Губернаторам всегда платили избранные ассамблеи! – возмутились они. – Это единственный способ дать им какой-то окорот! Мы станем для них пустым местом, если им будет платить Лондон!
– Это же очевидно, Джон, – внушал Мастеру его товарищ-купец. – Лондон хочет нас уничтожить. – И после этого добавил: – Пусть идут к черту, раз так!
Никто не успел оглянуться, как купцы снова отказались торговать с Лондоном. Мастеру показалось, что ассамблея заходит в тупик. Но хуже всех были проклятые «Сыны свободы». Чарли Уайт и его дружки. Они практически завладели улицами.
Прямо перед фортом, на Боулинг-Грин, они установили высоченный, как корабельная мачта, Шест свободы. Там постоянно возникали стычки с «красными мундирами». Если солдаты сносили шест, то сыны свободы ставили новый, еще больше, – тотем триумфа и неповиновения. А члены ассамблеи успели настолько перепугаться, что всячески им угождали. Кое-кто из сынов свободы даже выдвинул туда свою кандидатуру.