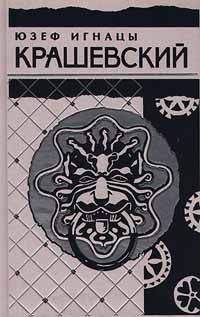— Но ведь отцу не может быть так плохо? — сказал холодно Люис.
Дю Валь прибавил тихо:
— Доктор говорит, что с этой болезнью можно жить чрезвычайно долго.
— Но я вижу, как он слабеет, как явно угасает.
Все замолкли, Люис довольно равнодушно смотрел на пол.
— Дело наше с паннами дурно поведено было сначала, — продолжала графиня, — а теперь уже невозможно поправить. Я поехала бы в Рим, выпросила бы разрешение для Люиса, если б он захотел жениться на Эмме, и тогда все было бы можно.
— Жениться на сестре, которая старее меня!
— Вещь не небывалая, в таких важных обстоятельствах, где идет дело о поддержке знаменитого рода.
— Но ведь не могу же я жениться на обеих! — возразил Люис. — Все же одна осталась бы.
— На эту легко было бы повлиять через сестру.
— Но этого никогда не могло бы случиться, никогда! — сказал Люис.
Графиня пожала плечами.
— Если б ты был немного старше и имел побольше отваги и решимости…
— Но во всяком случае необходимо искать другой выход, — заметил Люис, — и дело в том, какой?
— Но ведь я же и спрашиваю, что делать?
— Не знаю, положительно не знаю, — прошептал дю Валь. — Застрелить сумею, если б кто оказал сильное сопротивление, но советовать!..
— Я тоже, — сказал Люис насмешливо. Графиня начала ходить по комнате.
— Все поздно! — сказала она. — Мы должны продолжать и без того натянутое положение и отдаться на произвол судьбы. Что ж я одна, слабая женщина, могу сделать, когда никто не хочет подать мне руку помощи.
Дю Валь сидел, задумавшись.
— Мой совет один и постоянно один: найти ловких юристов и приискать какой-нибудь повод к процессу с паннами, — сказал он. — Процесс всегда возможен. Надобно было давно подумать об этом.
Графиня посмотрела на него, и, казалось, эта мысль уже не новая для нее, была подана недаром; но ей хотелось еще сказать несколько слов уходившему сыну, и она вызвала его в другую комнату.
— Люис, — сказала она шепотом:,— я должна тебя еще раз предостеречь и просить, чтобы ты оставил Манетту в покое! Надобно быть слепой и глухой, чтоб не видеть, как ты ухаживаешь за нею. Она близкая, очень близкая твоя родственница. Люис посмотрел на мать.
— Кузина? — спросил он.
— Гм… да, кузина, — отвечала графиня, покраснев. — Довольно, что близкая, и я не потерплю…
— Но, маменька, ведь вы знали, что я молод, она хорошенькая, и что, сближая нас…
— Я не думала, чтоб ты был так бесстыден и избалован, — грозно сказала мать.
— Но я таков, как все в мои годы, — спокойно парировал Люис, — и наконец она сама немного виновата.
— Ты вынудишь меня отправить ее.
— И будет поздно! — проговорил молодой граф самым хладнокровным тоном: это причинит мне неприятность и ничему не поможет.
— Как! — воскликнула графиня, быстро бросаясь к сыну и с гневом ломая руки. — Как! Ты смел у меня в доме?.. О я несчастная!
И она упала в кресло, разразившись рыданиями. Люис стоял, хладнокровно приготовившись сразу выдержать бурю.
— Что ж тут необыкновенного, страшного? — сказал он, пожимая плечами. — Не могу объясниться с вами подробно, только ручаюсь, что я не слишком тут виноват, и Манетта очень хорошо знала, что делала.
Мать сидела, закрыв глаза, чего Люис не мог понять; какая-то неожиданная скорбь и отчаяние овладели ей, а между тем она не промолвила ни слова и лишь указала сыну на дверь. Люис медленно вышел.
Когда барон Гельмгольд, искусно притворившись веселым, с шуткой на устах и с сигарой вошел в комнату Люиса, последний ходил, нахмурившись, и положительно не расположенный к веселости. Молча подали они руки друг другу.
— У меня очень большая неприятность, — отозвался Люис. — Одно глупейшее домашнее дело выводит меня из себя… Извини, пожалуйста! Маменька нездорова, отцу хуже, одним словом, я теряю голову.
— Не могу ли я быть чем-нибудь тебе полезен, любезный граф?
— Благодарю! Нет, не можешь. Это такие обстоятельства, к которым посторонняя рука не может касаться. Дело самое интимное.
Барон очень хорошо. понял, что на этот раз это значило — чтоб он выезжал из Турова.
— Как же мне грустно, — сказал он, — что именно в это время я буду принужден выехать из Турова. Графини пригласили меня позавтракать, пойду к ним проститься и тотчас же уеду.
— В Варшаву? — спросил рассеянно Люис.
— Конечно, только немного позже, а теперь еще некоторое время останусь в этих местах по семейным делам.
Хозяин ничего не отвечал, и хотя оставил мать разгневанной, однако чувствовал необходимость посоветоваться с нею и донести о завтраке.
— Ты уже пил кофе? — спросил он у Гельмгольда.
— Благодарю, уже пил.
— Подожди здесь минутку, я возвращусь немедленно: маменька велела принести ей книгу, я только отнесу и тотчас приду к тебе.
И Люис выбежал из комнаты. Гельмгольд посмотрел ему вслед с улыбкой; он видел, что с ним играли комедию, но необходимо было выдержать роль до конца.
Взойдя наверх, Люис тотчас же услыхал громкий голос графини и плач Манетты, и ему нетрудно было угадать сцену. С минуту он колебался, войти или не входить, но нельзя было терять времени, и потому он вошел.
Манетта в слезах стояла на коленях, а над нею, рассвирепев, словно фурия, графиня как бы грозила ей стиснутыми кулаками. При виде сына она закричала: "Вон!" и указала на дверь, но Люис не послушался и вошел бледный, хотя по виду невозмутимый.
— Я велела тебе идти прочь! — повторила мать.
— В эту минуту я не могу исполнить приказания, — отвечал холодно Люис. — Вы напрасно сердитесь, по всему дому раздается крик, а у меня очень спешное дело.
Манетта продолжала плакать, стоя на коленях.
— Повторяю еще раз — ступай вон и не смей вмешиваться в мои дела!
— Я нисколько не вмешиваюсь, — возразил Люис, — но заявляю между прочим, что как бы там ни было, а я не позволю ничего сделать с Манеттой. Вам, маменька, очень хорошо известно, что я держу свое слово. Манетта ни в чем не виновата, исключая то, что в последние дни слишком кокетничала с бароном; но барон уезжает после завтрака у сестер. Главный вопрос в том, что нам делать с этим завтраком?
Графиня только заскрежетала зубами; взглянула на сына не материнским взором, но как разгневанная женщина, и снова указала на дверь.
— Вон отсюда! — воскликнула она.
— Видя вас в таком гневе, я не могу оставить здесь Манетту. Пойдем, Манетта!
Но девушка только громко рыдала и отталкивала его обеими руками.
Наступило продолжительное молчание. Люис подумал с минуту и, не принимая близко к сердцу этих трагических приемов, сказал хладнокровно:
— Итак завтраком у сестер распоряжаюсь я сам. Вам, маменька, необходимо успокоиться. Я, право, не могу понять всей этой истории. Я видел, что вы бывали далеко снисходительнее в других случаях подобного рода.
Он хотел еще что-то сказать, но графиня вдруг оборотилась к нему, дрожащими руками вытолкнула его за порог и захлопнула за ним двери.
Люис обладал хладнокровием испорченного юноши, которого нелегко расшевелить, однако он принужден был спускаться весьма медленно, чтоб барон не прочел на его лице невольного волнения.
Гельмгольд и не думал доискиваться под этой маской подробностей тайны, догадываясь только, что дело шло о нем.
В флигеле, в помещении паненок приготовлен был завтрак. Девушки из вежливости или скорее в насмешку послали просить графиню с Манеттой; но графиня отказалась под предлогом головной боли и не отпустила Манетту, которая как бы должна была остаться при ней под предлогом этой мигрени.
На рекогносцировку послан был лишь Брюно дю Валь, а Люис, конечно, обязан был сопутствовать барону.
Девицы только через прислугу узнали кое-что глухо об утренних сценах в палаццо, но не понимали, что именно там творились.
Будучи принужден оставить Туров, барон был довольно скучен: ему не слишком хорошо удалось воспользоваться проведенным здесь временем. Он сблизился несколько с Эммой, и только мог заключить из полуслов, что она никогда не решилась бы оставить отца, если бы даже сердце увлекало ее… То же самое подтвердил ему и Мамерт, который под предлогом дел по имению имел частые свидания с графинями и чрезвычайно ловко, несмотря на соглядатайство, дал им понять, что барон влюблен, и что им следовало бы решиться обеим вместе, склоняя Изу победить упорство сестры; но ни Иза, ни неволя, ни полуслова Мамерта не могли подействовать на младшую, чтоб она покинула отца. Весьма кротко, но с глубоким убеждением она заявила, что, какая судьба ни ожидала бы ее, она не оставит бедного отца. Из всего семейства она одна в этой привязанности к впадшему в детство старику выказала силу, смирение и благородное чувство, которое превозмогло жажду мести.