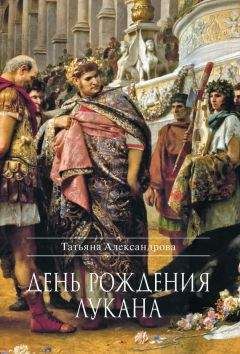Туника и стола на ней были аметистового цвета, складки уложены особенно продуманно – как на статуе; на шее поблескивало золотое ожерелье с аметистами, волосы были убраны очень тщательно, хотя прическа была обычная, простая. Лицо ее было бледно, но в осанке, в движениях чувствовалась решимость. На этот раз Стаций особенно поразился ее красоте и изяществу. Несмотря на седину в волосах, она казалась молодой, и в этом было что-то божественное: не просто молодость – вечная молодость. Все замолчали с ее появлением.
Она приветливо поздоровалась с гостями, после чего, попросив Поллия прерваться, пригласила всех в атрий. Видно было, что Поллий в некотором замешательстве, но, как и рассчитывал Стаций, устраивать объяснения на людях было не в его обычае.
В атрии уже были расставлены кресла для слушателей, стоял и высокий столик для чтеца. По полу были разбросаны лепестки пурпурных роз, розы стояли в двух небольших переливчато-фиалковых стеклянных вазах, ими же был украшен ларарий, а возле него, на таком же высоком столике, только обращенном наклонной стороной к зрителям, и тоже среди роз, лежала уже знакомая Стацию золотая маска.
Стацию, увидевшему, что Поллий окончательно растерялся и не знает, как понимать происходящее, стало жаль его. Ему показалось, что их общие действия в самом деле напоминают вторжение разбойников в мирное жилище…
– Я позвала вас сегодня, друзья, – начала Полла немного не своим голосом, заметно волнуясь, – потому что это день рождения великого поэта Марка Аннея Лукана… моего мужа. Почтим же его маны скромными приношениями и чтением стихов…
И, обратившись к Поллию, спросила робко и немного виновато:
– Ты совершишь все что положено?
Поллий молча закивал и тут же беспрекословно приступил к исполнению обычного обряда мирных жертвоприношений домашним богам.
Потом они стали рассаживаться по местам. Полла подошла к Стацию и почти беззвучно спросила его, может ли он взять на себя ведущую роль на празднестве. Стаций понял, что сама она говорить уже не может. Он кивнул и тут же попросил Поллу взять опеку над его женой – на самом деле цель его была противоположна. Полла улыбнулась Клавдии и усадила ее рядом с собой.
Когда все расселись по местам, а слуги принесли книги, Стаций начал с того, что, воздав краткую хвалу поэту, дал слово Марциалу. Тот, уже успевший напомнить Полле о некогда бывшем знакомстве, начал читать, одну за другой, эпиграммы:
Славный сегодняшний день, свидетель рожденья Лукана:
Дал он народу его, дал его, Полла, тебе.
О ненавистный Нерон! Что смерти этой ужасней!
Если б хоть этого зла ты не посмел совершить![151]
Стаций наблюдал за Поллой и заранее страшился собственного чтения. Она сидела, как всегда, прямо и как будто не слышала, что читается, опустив глаза в пол и плотно сжав губы. Стаций заметил, что одной рукой она держится за руку Клавдии, которая в свою очередь незаметно гладила ее по руке. У него мелькнула мысль, что зря он во все это ввязался, пренебрегши мнением Поллия, который, вероятно, знал, что делал, оберегая жену от лишних переживаний. Посмотрел он и на него: Поллий сидел опустив голову и не глядя по сторонам.
Между тем время неумолимо приближало его собственное выступление. И вот он уже сам подходил к столику для чтения, чувствуя тяжесть в ногах и холодок в щеках.
– По просьбе редчайшей из жен, госпожи Поллы Аргентарии, и я написал стихотворение на сегодняшний праздник, – начал он. – К сожалению, я не успел предварительно показать его ей, так что, госпожа Полла, ты вольна не принимать этого обращения, если оно тебе не понравится. Что до меня, то я не решился тягаться с несравненными гекзаметрами Лукана, отчего выбрал для себя Фалеков стих, – прошу видеть в этом знак моего величайшего почтения к поэту.
Потом он глубоко вдохнул и начал читать:
День рожденья Лукана пусть отметит
Всякий, кто, в исступлении ученом
На холмах, где Истмийской храм Дионы,
Жадно пьет от священных вод Пирены.
Кто причастен рождению искусства:
Ты, Аркадец, создатель звонкой лиры,
Ты, Эван, Бассарид стрекатель ярых,
Гиантийские сестры с Фебом вкупе!
Пурпур лент пусть венчает ваши кудри,
А по кипенно-белым одеяньям
Юный плющ пусть стремит свои побеги!
Пусть ученость потоком разольется,
Зеленей станет в рощах Аонийских!
Если тень твоя видеть свет способна,
Пусть сплетенья венков ее утешат![152]
Окинув взглядом собравшихся, он увидел напряженное спокойствие на лице Поллы, заинтересованность учеными предметами, загоревшуюся в глазах ее мужа, а также привычную ироническую усмешку на лице Марциала, выражавшую мысль, что «Классик», как всегда, с головой зарылся в пыль веков. На остальных слушателей у него уже не хватало внимания.
Читая собственное описание чествования поэта на Кифероне, Стаций поймал себя на мысли, что очень хотел бы, чтобы все и правда перенеслось туда, и ответ за все держал бы не он, а Аполлон, музы и Мнемосина.
Далее шла необходимая по смыслу и безобидная по форме похвала родине поэта, Испании. Стаций изобразил ее такой, какой она казалась ему в детстве, когда он наблюдал, как солнце садится в огненное море:
Сколь блаженны и счастливы те страны,
Где вблизи виден бег Гипериона,
Слышен скрип колеса, когда нисходит
Колесница на воды Океана…
Дальше шла более чувствительная часть, и Стаций сам ощутил, что его голос звучит обреченно:
…Лишь явился на свет и первым криком
Огласил он, младенец, эту землю,
Как его приняла к себе на лоно
Каллиопа сама и, скорбь забывши
По навеки ушедшему Орфею,
Говорила: «О мальчик, музам милый,
Быстро ты превзойдешь певцов маститых.
Нет, не реками править иль зверями,
Или гетскими ясенями двигать, —
Волновать станешь Тибр ударом плектра,
Песней всадников поразишь ученых,
Потрясешь и сенат порфироносный…
Он уже не мог смотреть по сторонам, понимая, что его Каллиопа как две капли воды похожа на сидящую перед ним прекрасную женщину в аметистовых одеждах, с простой прической и сединой в волосах. И она сама, заливаясь слезами, рассказывала краткую и печальную историю жизни поэта, как рассказывала ему, сидя в мраморной беседке над голубой бездной Дикархея.
Но дальше образ музы дробился: помимо седеющей женщины в аметистовых одеждах возникала другая, юная девушка, которую он увидел когда-то случайно в день ее высшего торжества и в пору безоблачного счастья:
…Но не только поэзии искусство, —
Подарю я тебе и факел брачный,
И супругу под стать тебе, какую
Дать Венера могла бы иль Юнона.
Всем взяла: красотой, умом, богатством,
Простотой, и ученостью, и родом.
Песни брачные пред порогом вашим
Воспою я сама на праздник светлый!..
Сколько времени продолжался их брак? Лет пять, как получалось по рассказу Поллы. Но что значили эти пять лет по сравнению с двадцатью пятью годами ее жизни после него? Мгновение!
О свирепые, яростные Парки!
Долгоденствие лучшим не дается!
Отчего высота грозит паденьем?
Точно ль ранняя смерть – удел великих?
Так рожденный Аммоном-Громовержцем,
Чей приход и уход – в сиянье молний,
В Вавилонской почил гробнице тесной.
Так рукою трепещущей Париса
Был повержен Пелид – Фетиды поросль.
Так по волнам рокочущего Гебра
Уплывала от нас глава Орфея.
Пурпурные цветы вокруг золотой маски сами по себе напоминали скорбный рассказ Поллы о смерти Лукана, а представившийся ей образ головы Орфея неотступно стоял перед глазами Стация, когда он писал свое стихотворение. Закончив слезами рассказ Каллиопы, Стаций перешел к самой ответственной части своего стихотворения, в которой с излишним, как ему теперь казалось, дерзновением призывал поэта вернуться на землю:
Ты же, – где бы ты ни был, – там, над миром,
Где несутся на быстрых колесницах
Души лучших, молвою вознесенных,
И смеются над дольними гробами,
Или там, где в священных мирных рощах
Элизейских покоятся счастливцы,
Где с тобою фарсальские герои,
И твоей благородной песни звукам
И Помпеи внимают, и Катоны
(Тень святая! Лишь издали ты видишь
Бездну Тартара, слышишь стоны грешных,
Наблюдаешь, как факел материнский
Освещает бескровный лик Нерона)…
После разговора с Поллой Стаций уже не сомневался, что слухи о Лукане не имеют под собой никакой почвы. Он развил ту мысль, которую подала ему Полла в их первой беседе: певцеубийце Нерону мало было смерти вдохновенного поэта-пророка, ему надо было очернить его память, приравнять его к себе, выставить почти матереубийцей. Возможно, сюда примешивалась уже другая зависть: ходили ведь слухи, что заговорщики хотели поставить принцепсом Сенеку, так что в случае успеха Лукан оказывался его ближайшим наследником. Подумать только, на императорском троне могла утвердиться династия Аннеев – философов, поэтов! И статуи целомудренной женщины с правильными чертами лица и строгой прической богини украшали бы форум, Палатин, Капитолий. Разве одной этой мысли не достаточно для того, чтобы возжечь пожар ненависти в завистливой душе человека, запятнавшего себя всеми мыслимыми и немыслимыми пороками? Да, смерти мало – она не может повредить тому, кто уже проложил себе путь в бессмертие. Только цепкая, липкая, гнусная ложь – против нее бывают бессильны и великие. А ведь эту ложь повторяют и, возможно, будут повторять многие, как повторял он сам, пока случай не открыл ему глаза!