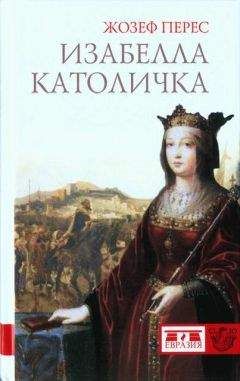По обычаю, я не присутствовала на похоронах единокровного брата. Вместо этого заказала мессу в соборе Сеговии, пока кортеж покойного короля ехал в монастырь Санта-Мария-де-Гвадалупе, где ему предстояло обрести вечный покой. Молясь о душе брата, я заставляла себя вспоминать не капризного короля, с детства внушавшего мне недоверие и страх, но странного робкого человека, которого я встретила много лет назад и который отнесся ко мне с любовью. Я бы соврала, сказав, что мне будет его не хватать после всего случившегося между нами, но все же нутром ощущала утрату и одиночество, осознавая, что из троих, в чьих жилах текла кровь нашего отца, осталась только я одна.
Но при всем желании я не могла оплакивать его и дальше — меня ждали срочные дела. Сложнее всего было решить, объявлять ли о моем вступлении на престол немедленно или подождать возвращения Фернандо. Каррильо убеждал, что нельзя терять времени. Как и Кабрера, он считал, что любая задержка может угрожать моему праву на трон. К тому же у нас не было гарантий, что Фернандо вообще сможет приехать, учитывая войну в Арагоне. И все же я колебалась почти целый день, пока мне не представилась возможность посоветоваться с кардиналом Мендосой, вернувшимся с похорон Энрике. Я доверяла прелату, который придерживался умеренных взглядов, одобрял мои действия и сохранял при этом лояльность Энрике. Он молча выслушал поток моих сомнений и опасений, что я могу оскорбить Фернандо и повредить нашему браку, провозгласив себя королевой в отсутствие мужа, и спокойно ответил:
— Я понимаю, сколь трудны были для вас последние дни и сколь многому вам теперь приходится противостоять, но вы единственная наследница королевства. Ваш муж, Фернандо Арагонский, получит титул короля-супруга, но у него нет иных наследственных прав в Кастилии, что он сам подтвердил своей подписью на брачном контракте. Право на трон, дитя мое, принадлежит только вам.
Я провела вечер в мучительных раздумьях, стоя на коленях перед алтарем в моих покоях и моля Бога о наставлении, об ответе, который снял бы с моих плеч бремя вины. Хотя в Кастилии были и прежде королевы, ни одной из них не удавалось успешно править долгое время. Совершала ли я грех гордыни, полагая, что сумею добиться того, чего не смогла до меня ни одна женщина? Королевство, которое мне предстояло унаследовать, превратилось в логово порока и лживости; казна стояла на грани банкротства, народ голодал. Многие гранды, если не все, — не говоря уже о святом отце в Риме и властителях других стран, — сказали бы, что Кастилии требуется жесткое правление принца вроде Фернандо, закалившего в боях отвагу и силу и готового сразиться со многими стоявшими на нашем пути препятствиями.
Меня тревожила мысль, что Фернандо, скорее всего, сказал бы то же самое.
Однако, несмотря на все попытки убедить себя, что на роль королевы я не гожусь, часть моей души взбунтовалась. Я не для того боролась столько времени, чтобы теперь уклониться от собственного долга. Корона действительно принадлежала мне как принцессе Трастамара, и в моих жилах текла кровь династии, правившей Кастилией больше ста лет. Мои подданные ожидали, что я взойду на трон, не вынуждая Арагон править вместо меня. Любую задержку или компромисс могли принять за слабость. Я не вправе допустить, чтобы обо мне говорили, будто Изабелле Кастильской недостает уверенности в себе.
И все же, пока Беатрис надевала на меня головной убор и тщательно расправляла белую шелковую вуаль, а Инес, присев, надевала мне кожаные туфли, я думала о том, что случится, когда Фернандо прочитает мое письмо.
Зазвонили колокола собора, призывая толпу на оцепленные кордоном улицы, по которым я должна была проехать в сопровождении свиты на plaza mayor.[31]
— Быстрее! — сказала Беатрис, застегивая пряжку моего плаща из черного дамаста.
Вместе с Инес они подняли длинный шлейф, и мы поспешили к цитадели. Там, под ясным зимним небом, столь голубым, что больно было смотреть, ждали представители духовенства и избранные сеньоры, приглашенные на мою коронацию. Низко поклонившись, они сняли шляпы, обнажив лысеющие макушки, редеющие волосы и напомаженные локоны. Я узнала Каррильо в знакомой красной мантии, кардинала Мендосу в украшенном драгоценностями облачении и любимого мужа Беатрис, Андреса, он, как всегда, безупречно выглядел в черном бархате.
Я остановилась. Кроме меня и моих фрейлин, женщин вокруг не было. Хотя я знала, что матери, жены, дочери и любовницы этих мужчин выстроились вдоль дороги в лучших своих нарядах, желая увидеть меня хоть одним глазком, мне казалось, будто с неба упал луч света, выделив из числа многих лишь меня.
Я подошла к Канеле. Конь нетерпеливо фыркал, на его роскошной попоне из дамаста изображался кастильский герб в виде замка и стоящего на задних лапах льва. С поводьев свисали дурацкие кисточки, и мне казалось, будто конь едва сдерживает желание их пожевать.
Поводья держал дон Чакон. Он был одет в накрахмаленный зеленый камзол, густая черная борода подстрижена, карие глаза гордо сверкали. После смерти Альфонсо он неизменно оставался рядом со мной — верный слуга и товарищ, на которого я всегда могла положиться. Его присутствие прибавило мне уверенности. Сегодня, в знак своих заслуг, он получил право вести меня по улицам Сеговии.
Собралась целая процессия; впереди шел Карденас, высоко подняв обнаженный меч. При виде его толпа смолкла, и я заметила едва скрываемое изумление на лицах стоявших вдоль дороги вельмож. Старый почерневший меч, откопанный по моему приказу из-под груды ржавеющих доспехов в сокровищнице, — священная реликвия королей Трастамара, символ справедливости и власти, и его еще ни разу не несли ни перед одной королевой. Высоко подняв голову, я не сводила глаз с центральной площади, где на украшенном алой материей помосте перед церковью Святого Мигеля меня ждал трон.
Чакон осторожно помог мне спуститься с коня. Стоя в одиночестве на покрытом кроваво-красным ковром помосте, в окружении тысяч жителей Сеговии, я слышала, как полощутся на ветру королевские знамена и раздается в морозном воздухе крик герольда:
— Кастилия! Кастилия для ее величества доньи Изабеллы, властительницы этих земель, и для его высочества дона Фернандо, ее мужа!
Толпа хором повторила его слова, и на глазах у меня выступили слезы.
На помост поднялся Мендоса с Библией в руках.
— Majestad, — нараспев произнес он, — вы принимаете всеобщее одобрение и клянетесь нести священный долг, возложенный на вас Господом?
Положив руку на Священное Писание, я открыла рот, чтобы произнести тщательно подготовленную речь. Но что-то меня остановило. Среди тысяч людей на площади я заметила стоявшую в стороне призрачную фигуру. Бледные глаза его пылали, лицо было белым как мел…
У меня перехватило дыхание. Я не могла отвести взгляд.
— Ваше величество? — прошептал Мендоса. — Вашу клятву, будьте любезны.
Я моргнула, а когда посмотрела снова, фигура исчезла. Сглотнув, я произнесла слегка дрожащим голосом:
— Принимаю возложенную на меня великую честь и клянусь на Святом Евангелии исполнять заповеди нашей Церкви, соблюдать законы королевства и оберегать общее благо всех моих подданных, возвеличивая королевство по обычаю моих прославленных предков и храня наши обычаи, свободы и привилегии по праву законно помазанной на царство королевы.
С шелестом, похожим на хлопанье крыльев гигантского сокола, все опустились на колени. Вельможи один за другим выходили вперед, приносили клятву верности. Придворные чиновники передали свои служебные жезлы Кабрере, признавая смену власти, и я преклонила колени перед Мендосой, который начертал знак креста над моей головой.
— Боже, храни королеву Изабеллу!
И мои подданные, народ Кастилии, одобрительно взревели.
Было уже за полночь, когда я наконец вернулась в свои покои. Ноги болели, губы устали от бесконечной улыбки. Я послушала торжественную молитву «Те Deum» и возвратилась на ужин в алькасар, а затем заняла свое место на троне и начала принимать многочасовую очередь доброжелателей, включая настороженных грандов, которые, кланяясь мне, пытались предугадать мои дальнейшие действия.
Я видела собственное отражение в их зрачках, словно в зеркале. Смотрела на свою белую ладонь, каждый палец которой украшали перстни, на золотистую ткань рукава, свисавшую с пухлой руки неопытной двадцатитрехлетней женщины, и чувствовала неприязнь грандов. Их губы кривились, сдабривая медоточивые поздравления неприятными ухмылками.
Они не признают меня королевой, пока я не докажу, что сильнее их.
Эта мысль лишала меня сил. Как только мои столь же уставшие фрейлины раздели меня и, пошатываясь, вышли, гася по пути свечи, я свернулась клубком на постели и закрыла глаза. Нужно послать за дочерью, подумала я. Мне хотелось, чтобы Исабель была рядом.