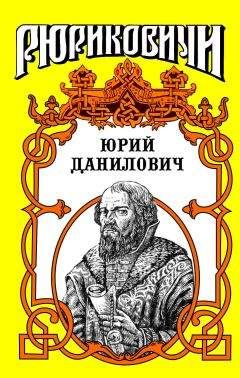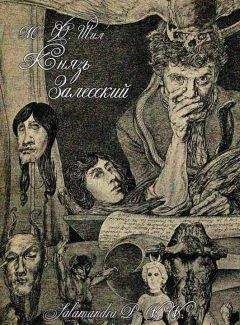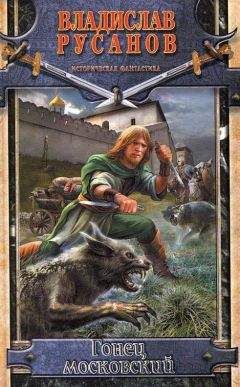А Акинф, знай, своё гнёт:
- Голыми руками возьмём! Славу - князю! Нам - имение! Али не Михаил князь велик? Вернём под Тверь дедову отчину! За Михаила!.. - Так и предают, твоим же именем прикрываясь.
И вот беда, не нашлось никого в Твери урезонить Акинфа пустоголового. Да путных-то и не слушали. Ведь, ясное дело, на худое-то всегда легче подбить, чем на доброе.
Словом, наскоро сбив дружину, повёл её боярин на Переяславль. Как ни внезапно он подступил, однако же с ходу-то обломал копьё о неприступную переяславскую крепость. Да ведь не спрохвала войну начинают! Одумались тверичи, стали уговаривать Ботрю отступиться, только куда там! Злой, что глухой!
- Подниму, - кричит, - на копьё Ивана! Ан вовсе не по Акинфову вышло!
Взяли город в осаду. Ботре уж и то в радость, что он всякими словами противника своего поносить может. А только и самыми охульными ругательствами война не выигрывается. Пока он так без всякой пользы бранился, клекоча индюком, нагрянул из Москвы боярин Родион Несторович со своей рваной ратью. Родион Несторович подпёр тверичей со спины, а в лоб им переяславцы из ворот выскочили. И началась резня…
Из тысячи с лишним ратников, что увёл за собой Акинф, в Тверь вернулось не боле полутора сотен. А боярину Акинфу Великому собственноручно снёс голову боярин Родион Шесторович Квашня. (Не суть дело в прозвище!) И, взоткнув ту глупую голову на копьё, так на копье и преподнёс Ивану Даниловичу:
- Вот, князь, голова местника твоего!..
Так первой обильной кровью вкрепился великий русский разлад между Москвой и Тверью.
ЧАСТЬ ЧЕТВЁРТАЯ. СВЕРШЕНИЕ
ошто, пошто ты то сотворил? - мелкими шагами, словно подпрыгивая, меряя горницу и по жабьи пуча глаза, шипел Иван. Забыв про братово старшинство, ногами готов был топать, ором орать - так был взбешён, да опасался чужих ушей, не ровён час затаившихся у дверей, потому и шипел сторожко: - Пошто, Юрий? Пошто, тебя спрашиваю?
Юрий сидел за столом, безвольно опустив руки на голову. То ли с давешнего был тяжко похмелен, то ли с утрешнего не трезв.
- Али я тебе ответ держать должен? - еле ворочая языком, глухо, невнятно спросил он.
- Должен! - задушенно вскрикнул Иван.
Юрий накоротко вскинулся, мутно взглянул на брата и вновь уронил голову на руки. В иной бы раз окоротил, а ныне сил не было. После вчерашнего чувствовал он себя так погано, что не то что с Ванькой лаяться, на белый свет глядеть не хотелось.
- Дак пошто меня не спросил?
- Али я тебя должен спрашивать? - пьяно повторил Юрий.
- Должен! - с ещё пущей яростью прошипел младший брат.
«Ишь, как хайло-то раззявил! Вон что!»
Юрий поднял от стола голову, в упор поглядел на брата, и тут Иван заметил в доселе пьяно-бессмысленных его глазах совершенно трезвое любопытство впополам с нехорошей усмешкой.
- Дурак ты, Ванька, что орёшь на меня, - Юрий покачал головой и хмыкнул: - Я, ить, и во хмелю па-а-а-мятлив…
Ан, знать, не столь и хмелён был, как представился. Точно косой, подсек одним взглядом. Иван и впрямь опустился на лавку, заканючил привычно:
- Да ты меня, брат, шибче грома сразил! Ну, коли я дурак, так и есть - дурак! Но поясни ты мне, дураку, пошто убил-то его?
Юрий задумался, будто в самом деле мучительно припоминал, что случилось намедни. Потом спросил:
- А не ты ли, брат, жалился, что коломенцы, мол, вновь на Рязань заглядываются, из-под нас хотят вылезти?
- Ну дак что?
- Дак и то!
За три года, что минули, Юрий изменился. Не постарел, разумеется, - рано было ему стареть, но черты лица его приобрели окончательную завершённость. При этом в них проявилась некая мрачная значимость. По-своему он стал даже красив, той жутковатой, смертельно опасной красотой, что присуща, скажем, кинжалу. Как бы искусно ни был тот выполнен, какие бы драгоценные каменья ни украшали его рукоять, а все ж по сути своей всяк кинжал предназначен не для того лишь, чтобы им любовались. Есть люди, об которых и взглядом можно порезаться до крови. Таков был и Юрий.
Глядя на него, твёрдо можно было сказать: придирчив и строг сей князь. А можно было сказать по иному: зол и мстителен. В зависимости оттого, с какой стороны и какими глазами взглянуть. Но так или иначе, а эти душевные свойства вполне отпечатались на Юрьевом лике.
Впрочем, ныне лик его действительно был изрядно бледен, опухл и помят, отчего вышеозначенные черты несколько притупились. Что и ввело в заблуждение даже бдительного Ивана.
- Ан все одно, никак в толк не возьму, пошто тебе убивать-то его понадобилось? - куда как мягче, если не вкрадчиво вновь спросил он.
- Да хватит ужо ломаться, чай, не девка! - пристукнул вдруг кулаком по столешнице Юрий. - А кто словеса-то плёл, как тенёта? Мол, хоть и в плену, да прок не велик, мол, больно долго живёт, мол, зажился излиха! Я, что ль?
- Дак нешто я убивать говорил? - по-бабьи всплеснул руками Иван.
- А что, иное имел в уму? - зло рассмеялся Юрий.
- Да тише ты, брат! Не шуми! - отчаянно прошипел Иван и, испуганно оглянувшись, будто не одни они были в горнице, веско добавил: - Ты со своей телеги кладь на мою-то не перекладывай.
- Вон что! Али пуп надорвать боишься? А не ты ли мне говорил, когда в Сарай бежать подбивал, что кладь-то у нас одна - то бишь ноша батюшкина? - Юрий глядел на Ивана холодно, ждал ответа.
Кабы был Иван попрямей, так, поди, и ответил бы прямо, что думал:
«Ноша-то у нас, может, и одна, да пути разные…», но увильнул взглядом в сторону, запричитал:
- Ах, брат, нешто возможно всякого убивать, кто излиха живёт? Да разве словом я на то намекнул? Чего ж ты несёшь на меня такую дикую околесицу?
- Ладно, уж сделано!
- Да как неловко спроворено-то! - Иван с досадой хлопнул себя по ляжкам. И уж в ином упрекнул: - Нешто мёртвого-то долой с чужих глаз прибрать разума не хватило? Пошто с ремешком-то на шее да в ссанине оставили?
- Хмельны были, - Юрий сжал руками голову. Знать, голова-то и впрямь трещала.
- Да кто ж во хмелю таки дела делает? - возмутился Иван.
- А вот ты сам бы, коли тверёз, пошёл да убил! - ощерился Юрий.
- Что ты, что ты, брат! Тише! Тише!
- Да ладно шипеть-то! Что сделано, то уж сделано! Обратно не оживишь, ну так и нечего об том толковать! - подвёл черту Юрий.
- А ты на меня, брат, напрасно так глянул-то давеча, ажио пот прошиб, - на всякий случай обезопасил себя Иван. - Ить не винил я тебя, а лишь сетовал! Чай, знаю, что не со зла, а во общую пользу! Ах, Господи, Господи, была бы польза! - Он вскинул глаза на божницу и быстро, сноровисто осенил себя крестным знамением.
* * *
Нынче на Москве был удавлен рязанский князь Константин Романович. Тот самый Константин Романович, что обманом был ухвачен ещё Даниилом Александровичем в тот давний год, когда двинул он полки на Рязань.
Князь Данила держал его почётным заложником - «гостем» своим величал. Ан сыны его уж не лукавили, - из княжьего терема перевели на задворье в грязную и холодную клеть. Держали в строгости, однако всё равно не смогли сломить упрямого старика. Ни в какую не соглашался он по добру признать за Москвой Коломну. А людишки-то хитры - коли право на них не крепким ярмом надето, так они и вовсе норовят из-под всякого права выйти. Опять же, сын его Василий, что в Рязани вокняжился, копил силы, чтобы отомстить за позор.
Однако же была у Москвы надежда, что недолго Василий Константинович просидит на Рязани. Во-первых, по давнему с тем же Юрием сговору всяко досаждали ему двоюродные братовья, князья пронские. Впрочем, Юрий там был не больно при чём - у пронских на то, чтобы свалить Василия, был и свой резон, и своя дальномудрая выгода. А во-вторых, сам Василий по юношеской горячности или же по наследной строптивости не больно заботился о том, чтобы подольше прожить.
Ещё дед его, Роман Ольгович, как-то в сердцах, хотя и заглазно, упрекнул Менгу-Тимура в забвении отческой веры. Ну, это когда тот Пророку-то стал поклоняться и всех своих татар с царским пристрастием стал склонять к тому, чтобы и они перешли в магумеданскую веру.
Да, скажите на милость, какая ему разница, рязанскому-то князю, какому кусту, какому идолу или Богу татаре кланяются? Дак нет, высказался! И высказался, что примечательно, исключительно среди своих. Ан, знать, не все свои - близкие.
Ну Менгу-Тимур и притянул его «за язык».
- Говорил? - спрашивает.
- Говорил.
- Отрекись от тех слов!
А князь своё: мол, от правды не отрекаются!
Ну уж тут делать нечего, хан руками развёл и велел казнить его по всей строгости и по всем обычаям магумеданского милосердия.