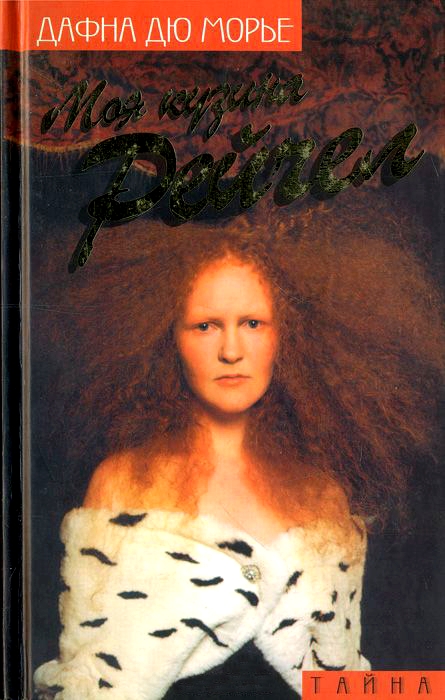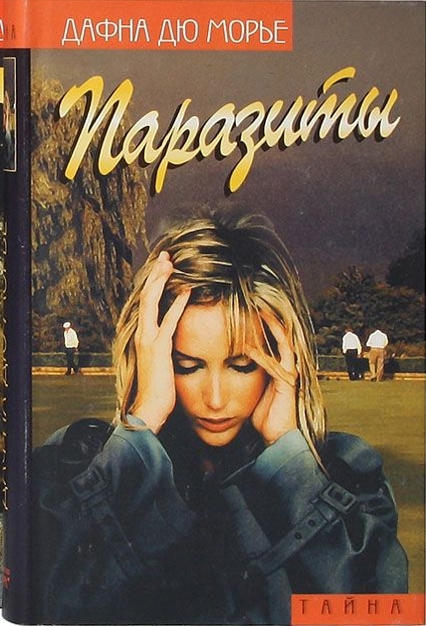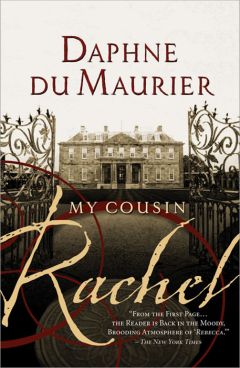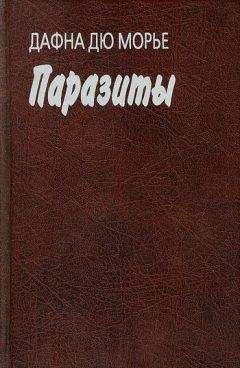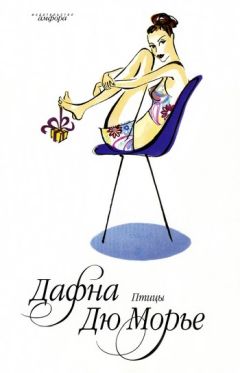бумаги, кусал перо, откидывался на спинку стула, и все, что я перед тем писал, теряло значение. Письмо подождет, цифры можно не сводить, решение по одному делу в Бодмине отложить. И, все бросив, я покидал контору, проходил через двор и, войдя в дом, шел в столовую. Обычно Рейчел была уже там и встречала меня пожеланием доброго утра. Иногда она клала рядом с моей тарелкой зеленую веточку, и я вдевал ее подарок в петлицу; иногда предлагала попробовать какой-нибудь настой из трав. Она знала великое множество рецептов и постоянно предлагала их нашему повару. Она успела провести в моем доме несколько недель, прежде чем Сиком под строжайшим секретом и прикрывая рот рукой сообщил мне, что повар каждый день приходит к ней за распоряжениями, по каковой причине мы и питаемся не в пример лучше прежнего. «Госпожа, — сказал Сиком, — не хочет, чтобы мистер Эшли об этом знал, иначе он может счесть ее слишком бесцеремонной». Я посмеялся и не стал говорить ей, что мне все известно, но порой, шутки ради, отпускал какое-нибудь замечание по поводу одного из блюд и восклицал: «Ума не приложу, что случилось у нас на кухне! Парни становятся заправскими поварами, не хуже французских», а она в полном неведении спрашивала: «Вам нравится? Так лучше, чем раньше?»
Теперь все без исключения называли ее госпожой. Я не возражал. Пожалуй, такое обращение не только нравилось мне, но и вызывало определенную гордость.
После ленча она шла наверх отдохнуть. По вторникам и четвергам я распоряжался закладывать экипаж, и Веллингтон возил ее по соседям отдавать визиты. Если у меня были дела по пути, я проезжал с нею пару миль, после чего выходил из экипажа, а она ехала дальше. Выезжая с визитами, она уделяла особое внимание своему туалету. Всегда лучшая накидка, новые вуаль и капор.
В экипаже, дабы иметь возможность смотреть на нее, я садился спиной к лошадям; она же, думаю, чтобы подразнить меня, нарочно не поднимала вуаль.
— Ну а теперь, — говорил я, — вперед, к вашим сплетням, вашим маленьким потрясениям и склокам! Чего бы я не дал, чтобы превратиться в муху на стене!
— Поезжайте со мной, — отвечала она, — вам это пойдет на пользу.
— Ну уж нет! Вы обо всем расскажете мне за обедом.
И я оставался на дороге, провожая взглядом экипаж, и, пока он не исчезал из виду, в его окошке развевался изящный носовой платок. Я не видел ее до пяти вечера, то есть до обеда, и часы, отделявшие меня от новой встречи, превращались в некое испытание, через которое необходимо пройти ради конца дня. Работал ли я в конторе, ездил ли по имению, разговаривал ли с людьми, меня все время одолевало нетерпение. Который час? Я смотрел на часы Эмброза. Только половина пятого. Как медленно тянется время!
Возвращаясь домой мимо конюшни, я сразу замечал, что она уже приехала: в каретном сарае стоял запыленный экипаж, конюхи кормили и поили лошадей.
Войдя в дом, я заглядывал в библиотеку, в гостиную. Пусто. Она всегда отдыхала перед обедом. Затем я принимал ванну или умывался, переодевался и ждал ее в библиотеке. По мере того как стрелки часов приближались к пяти, мое нетерпение возрастало. Дверь библиотеки я оставлял открытой, чтобы слышать ее шаги.
Сперва до меня долетал мягкий топот собачьих лап — теперь я утратил для собак всякое значение, и они как тени повсюду ходили за Рейчел, — затем шуршание платья по ступеням лестницы. Пожалуй, это мгновение я любил больше всего. Знакомый звук молниеносно будил во мне неясные ожидания, смутные предчувствия, я терялся — что сделать, что сказать ей, когда она войдет в комнату? Не знаю, из какой ткани были ее платья — из плотного шелка, атласа или парчи, — но казалось, они скользят по полу, приподнимаются, снова скользят; и то ли само платье плыло, то ли она двигалась в нем с такой грацией, но библиотека, темная и строгая до ее прихода, внезапно оживала.
При свечах в Рейчел появлялась мягкость, которой не было днем. Словно яркость утра и приглушенные тона послеполуденных часов отдавались работе, и ее движения были четки, продуманны; но теперь, когда опустился вечер, непогода осталась за окнами и дом замкнулся в себе, она излучала таившееся в ней до сей поры сияние. Ее щеки слегка розовели, волосы казались темнее, глаза светились бездонной глубиной, и поворачивала ли она голову, чтобы заговорить со мной, подходила ли к шкафу взять книгу, наклонялась ли погладить вытянувшегося перед камином Дона — во всем, что она делала, была непринужденная грация, придававшая каждому ее движению ни с чем не сравнимое очарование. В такие мгновения я недоумевал: как мог я когда-то находить ее обыкновенной?
Сиком объявлял, что обед подан, мы переходили в столовую и занимали свои места: я — во главе стола, она — по правую руку от меня, и мне казалось, что так было всегда, что в этом нет ничего нового, ничего необычного, будто я никогда не сидел здесь один — в старой куртке, положив перед собой книгу, чтобы под предлогом чтения не разговаривать с Сикомом. Но никогда прежде такое обыденное занятие, как еда и питье, не показалось бы мне столь увлекательным, как теперь, никогда не превратилось бы в своего рода захватывающее приключение.
Неделя проходила за неделей, мое волнение не уменьшалось, напротив, оно возрастало, и наконец я поймал себя на том, что под разными предлогами стараюсь быть поближе к дому, чтобы хоть мельком видеть ее и тем самым на несколько минут продлить время, которое мы проводим вместе. И была ли она в библиотеке, проходила ли через холл, ожидала ли в гостиной посетителей, она улыбалась мне и говорила: «Филипп, что привело вас домой в такое время?» — вынуждая меня придумывать все новые и новые объяснения. Что касается сада, то я, который зевал и нетерпеливо переминался с ноги на ногу, когда Эмброз пытался заинтересовать меня, теперь делал стойку, едва речь заходила о садах, и вечерами после обеда мы вместе с ней просматривали итальянские книги, сравнивали гравюры и оживленно обсуждали, какую из них скопировать.
Думаю, если бы она предложила построить на Бартонских землях копию самого римского Форума, я бы согласился. Я говорил «да», «нет», «право, это прекрасно», но никогда не слушал по-настоящему. Мне доставляло удовольствие видеть ее увлеченность любимым делом; видеть, как, нахмурив брови, с карандашом в руке она сосредоточенно размышляет над тем, какую из двух картинок выбрать; наконец, видеть,