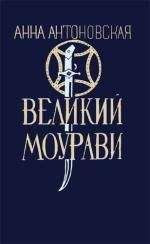Удивленно рассматривал Саакадзе своего сына. В кого он? «У нас в роду купцов нет. У Эристави… да, пожалуй, Зураб тоже так говорил бы, если бы огромные трофеи не обрадовали его, как и других князей».
— Ты говоришь — убытки? Но если память моя по-прежнему крепка, не вижу — в чем? Благодаря моим заботам шах Аббас не тронул Кватахеви. Я тоже не нарушал ход жизни обители. А если монастырские дружинники дрались, то так поступали все. Надо было защищать святую церковь или нет?
— Я не об этом напоминаю, мой отец. Ты всегда был другом Кватахеви. Да не оскудеет и теперь твоя десница при дележе.
— Дележе? Ты о чем?
— Католикос решил усилить церковь угодьями и людьми. Тебе как полководцу предоставится определить: сколько следует каждому монастырю…
Правая бровь Бежана резко приподнялась, и две глубокие складки пересекли переносицу. Так бывало и у самого Саакадзе, когда он стремился преодолеть препятствия. Моурави в упор смотрел на сына и удивлялся, точно видел свой собственный портрет в юности, но написанный елейной рукой монастырского фрескописца.
«Все понятно, — возмущенно думал Саакадзе, — черная братия решила узаконить расхищение ценностей царства. И меня стараются втянуть, дабы народ не роптал! «Если Моурави просит — значит, надо…» Выходит, моими руками хотят золото просеивать… Что ж, подметаем им черную пыль».
— Мой сын, любуюсь тобою… Еще совсем молод, но мысли и заботы о монастыре достойны мудрости мужа… Я, конечно, сам думал о том, как обогатить обитель, где живет и трудится Бежан Саакадзе… Но Шио-Мгвимский монастырь намного больше пострадал… Мцхетский…
— Мцхетский? — воскликнул Бежан, перенявший от Трифилия вражду и зависть к богатой обители. — Мцхетский, отец, и так распух от золота и угодий. Все святые обители одинаково помогали Симону Первому в войне с шахом Тахмаспом. А настоятель Мцхета изловчился в благодарность единолично получить от царя подворье у Метехи, виноторговые ряды, деревню Коранта с виноградным садом, а от князей Бараташвили — владение под Дигоми, от Эристави — деревню Вирши с ее доходами и водами и еще многое, чего не хочу перечислять ради спокойствия своей души.
— Ты забыл, что шах Аббас огнем прошелся по Мцхета. Церковь Гефсиманская до сего часа без свода. А часть хитона господня в золотом ковчежце шах Аббас пленил, увез с собой в Исфахан, обеднив первопрестольную мать городов грузинских. — И, словно не замечая саакадзевской ярости в глазах Бежана, сокрушенно продолжал: — Эртацминдский настоятель требует рогов от всех картлийских оленей для восстановления разрушенной шахом Аббасом святой крыши. А стенание всех женских обителей, потерявших алтари? Все требуют от царства, а никто не подсказывает — откуда взять? Но я сам придумал.
— Мой благородный отец, — Бежан прикрыл гуджари с перечислением пожертвований Мцхетскому собору за сто лет, — я знал, ты найдешь средства умиротворить…
— Черную братию? Не думаю. Все же другого выхода нет, придется идти войной на богатую Казахию.
— А у тебя уже готово войско?
— Не у меня, а у католикоса.
— Господи помилуй, это невозможно! Церковь не может больше рисковать.
— А государство? Знай, мой Бежан, у меня горсточка дружинников, а новая сила еще не под знаменами. Чем же мне воевать? Князья? Но я решил жить с ними в мире и не требовать от них больше жертв, и так пострадали…
Не успели за Саакадзе захлопнуться монастырские ворота, как настоятель Трифилий и его будущий преемник поспешили в глубь сада для тайной беседы. Выслушав все от слова до слова, Трифилий подумал: «Пока католикос не скрепит подписью указ о постоянном войске, нечего ждать от Моурави единовременного обложения в пользу церкови… А без его помощи народ сейчас, кроме медных шаури, ничего не даст».
Трифилий приказал оседлать любимого коня и скоро, сопровождаемый монашеской свитой и охраной, поскакал в Мцхета, в летнюю резиденцию католикоса.
Задумчиво возвращался в Носте Саакадзе. Что предпринять? С церковью ссориться рано… А с народом? Что скажут глехи, если их Моурави вопреки обещанию сделать жизнь легче наденет на них новое ярмо?.. Но тогда католикос поддержит меня и князья вынуждены будут пойти на создание постоянного войска… Магаладзе поспешил уведомить о совещании князей в Марабде… Правильно поступил, предоставив князьям действовать на свободе. Чем больше предо мною провинятся, тем податливее будут на съезде… Шадиман пока не опасен: он не обманул моих ожиданий. Кроме Магаладзе, есть еще Квели Церетели, — от него я узнал обо всем происходившем в Марабде. Андукапар все же прорвался, пришлось заменить дружинников более опытными, а заодно усилить окружение… Думаю, сухопарый надолго останется у Шадимана, — вдвоем легче паутину плести…
За Саакадзе, как тень, следовал Эрасти, не позволяя телохранителям приближать коней…
На повороте, у черного дуба, Саакадзе натянул поводья.
Во весь опор навстречу скакал Элизбар.
— В Двалети восстание!
Конь Элизбара тяжело дышал, пена хлопьями падала с мундштука. И сам Элизбар, запыленный и потный, еле переводил дух. Он, волнуясь, сбивчиво рассказал, что от Зураба Эристави прискакал сторожевой дружинник с границы.
— В Двалети восстание!
Саакадзе взмахнул нагайкой. Джамбаз вздыбился, его глаза налились кровью, от обиды широко раздувались ноздри. Рванувшись, вихрем понесся под откос, перелетая через кустарники и камни.
«Жаль, в политике нельзя так мчаться напрямик — через многое можно было бы перескочить. Двалети придется взнуздать, — плохой пример надо искоренять беспощадно. За Двалети могут зашевелиться все горные хребты. А казахи? Не следует забывать мстительную Зугзу. Говорят, ханшей стала. Мечтает пленить Моурави. Пусть надеется… Э-хэ, Джамбаз, куда несешься, мой конь? Разве не видишь, под нами не серебряная нить, а бьющаяся об острые камни Кавтури. Или ты не слышишь грохот обвала? Это твои копыта сотрясают гору. Три женщины были на моем пути, и ни одна не похожа на другую! Нино… золотая Нино! Ни битвам с дикими ордами, ни блеску царских замков, ни прославленным красавицам не затмить золотой поток твоих кудрей и синие озера глаз… Вот повернуть коня и помчаться туда, где ветер срывает со скалистых вершин ледяные глыбы. Туда, где солнце огненным крылом режет туманы. Там моя Нино… Но почему я вздрогнул? Неужели двоих люблю? Нино!.. Разобью Двалети, — клянусь увидеть тебя!.. Решено, Моурави сам поведет войско!.. Пусть Зугза успокоится, ее никогда не желало мое сердце. Только кровь молодая иной раз кружила голову. Все прошло, осталась жалость… и… моя Русудан. Гордая, как арагвские высоты, сильная, как беркут в гневе, смелая, как мысль. Моя Русудан! Кто сравнится с тобой?! Как ты сказала тогда? Сохраню наших сыновей, сохраню, скольких смогу… Только орлица может так думать. Ни одной слезы! Кто видел слезы Русудан? На Двалети сам пойду, мир не будет нарушен!..»
Извещенные гонцами, спешно съезжались родовитые князья в Метехи. Но в их съезде не было обычной пышности. На военный разговор вызывал их Моурави. Прискакал и правитель Кайхосро из Мухрани, где отдыхал от летней жары. Собрались и влиятельные азнауры, были здесь все «барсы», неразлучные Гуния и Асламаз, принесся и Квливидзе с сыном Нодаром. В полном боевом наряде прибыл и сумрачный Зураб Эристави.
Когда вошел в оранжевый зал Моурави, поднялись князья и азнауры. И пока не опустился он в кресло по правую руку правителя, все стояли. Только старик Мухран-батони продолжал сидеть по левую руку правителя. Саакадзе коротко выразил сожаление, что в такой зной потревожил благородных витязей, но…
— В Двалети восстание!
Хотя все уже знали об этом, но деловая сухость Моурави невольно тревожила, и почти одновременно князья вскрикнули:
— Говори, Моурави! Говори!
— Если бы просто бунтовали двали, доблестный Зураб Эристави один бы их усмирил, как делал это уже не раз. Но мне придется, благородные рыцари, напомнить вам истоки вечных смут, вечной угрозы… Еще в пятом веке двалетские мтавари предали Картли страшному разорению. Вскоре Вахтанг Горгасал врезался через Мухтарскую Арагви в Двалети, захватил Дарьял. Юный царь лично поразил хазара Тархана и Ос-Багатара, привел мтавари в покорность и вернулся через Абхазети с трофеями.
И последующие века мутили двалетские мтавари, пока царица Тамар, внучка осского царя Худдана, в церкви святого Георгия, воздвигнутой ею в Двалети, не принудила мтавари за себя и потомков дать клятву верности грузинскому скипетру. Но в конце тринадцатого круга хроникона, воспользовавшись уходом на войну Димитрия Второго, двали ворвались в Гори, разграбили город и предали пламени. Отсюда угрожали они захватом Тбилиси. И когда Эристави Амада осадил Гори, обратились они за помощью к татарским ханам. Много лет скрежетали шашки и окрашивались реки родственной кровью, пока Георгий Блистательный не утвердил вновь границы Грузии от Никопсы до Дербента.