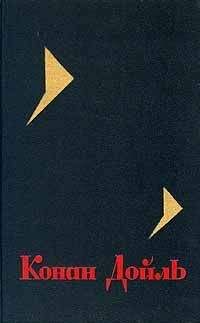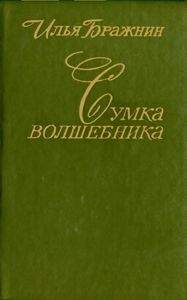Он грустно посмотрел на эти елочки. Они были низкорослы. Им не хватало солнца, под ногами у них было чахлое, ржавое болото. Но они росли, жили, боролись. «Совсем молодцы», - подумал Марк Осипович.
- Будьте вы прокляты, палачи! - крикнула Близнина, откинув со лба волосы и глядя прямо на подымающиеся дула винтовок.
«Уже? - подумал Марк Осипович. - Ну да! Они будут прокляты… Каины… Они будут прокляты…» Но - что ещё нужно вспомнить?… Кажется, он где-то видел этого красивого офицера со светлыми усиками. Нет, не то… Что-то другое… Чёрт знает как они торопятся… Надо обязательно успеть вспомнить…
Он поднял к лицу руки. Он всегда потягивал книзу нос, когда задумывался… Пуля перебила поднятую руку… Елочки вздрогнули от выстрелов. Стоявшее низко над ним розовое облако, словно сорванное залпом, медленно поплыло на запад. Он падал навстречу облаку… Оно было похоже на человеческую голову. Надо было вспомнить человека… Власов? Ну да, Власов… Власов остался. Он протянул к Власову руку… В ней ещё трепетала жизнь. Власов должен был видеть это, он должен был принять эту жизнь как завещание.
…Жизнь с каждым днем становилась всё трудней. Власов видел, что конец его близок. Куда бы он ни пошел, всюду за ним следовали шпики. Было ясно, что его выследили и не берут только потому, что хотят открыть все явки, все конспиративные квартиры, выловить побольше подпольщиков.
Чтобы не навести шпиков на след товарищей, он перестал ходить на их квартиры. В столярной мастерской произвели обыск и аресты, туда тоже ходить было опасно: контрразведчики могли устроить там засаду.
Работать Власову в такой обстановке было уже невозможно, и никакой пользы организации, будучи выслежен, Власов принести не мог. Пораздумав, он решил пробираться на Печору, - на счастье, при нём были ещё документы на имя Сафонова, возвращающегося на родную Печору из германского плена.
Но прежде чем уйти, он должен был повидаться с остающимися, невыслеженными товарищами, сговориться с ними о связях, передать то, что знает о спрятанных документах, шрифтах, паспортах.
Поздно вечером, обманув шпика, он вскочил на ходу в трамвай и, доехав до монастыря, переправился в лодке через реку к вокзалу. Оттуда он пробрался пешком на Исакогорку, где жила старушка, прописывавшая подпольщиков как своих постояльцев-сезонников, шедших на заработки в город.
У старушки Власов прожил три дня, не выходя из дому и дожидаясь, не придет ли кто-нибудь из товарищей.
Под вечер четвертого дня один из них явился, и Власов столковался обо всём.
Спустя несколько дней ему были доставлены котомка с недельным запасом пищи, карта, наган с двумя обоймами патронов, немного денег. Он ушел ночью с Исакогорки, прошел к югу верст пятнадцать, вышел к Двине. Дойдя до Лаи, он укрылся на день в лесу, а ночью увел чью-то душегубку и переехал в ней через реку. Он пробивался проселками и тропами на восток, к Пинеге, и все шло хорошо, пока у него была пища. Потом пришлось туго, и на пятнадцатый день он попался, пытаясь достать в деревне хлеба.
Три с половиной недели его мытарили по допросам на Пинеге и наконец, избитого и измученного, отправили в архангельскую тюрьму. Документы на имя Сафонова спасли ему жизнь. Нераскрытый, спустя две недели, с небольшой партией подследственных и каторжан он был отправлен на Мудьюг. С этой партией отправился на каторгу и Никишин.
Глава восьмая. ЗА КОЛЮЧЕЙ ПРОВОЛОКОЙ
Низкий гудок стелется над белым плоским морем. В клюзе грохочет якорная цепь. Пароход медленно колышется на рейде. Арестантов выводят на палубу.
Никишин спускается в шлюпку. Он в серой одежде каторжанина, в черной ермолке. Всю жизнь он должен теперь носить обвисшую серую дерюгу, всю жизнь он должен провести на этом пустынном острове.
Что ждет его здесь? Шлюпка приближается к берегу. На пристани стоит офицер в синей фуражке тюремного ведомства. Он грузен, толст, в руках его неструганая палка с железным наконечником. Короткая рука офицера нетерпеливо дергается, наконечник долбит доски пристани.
- Кто это? - спрашивает Никишин у каторжанина-перевозчика.
Каторжанин пугливо озирается и, наклонясь к самому уху Никишина, шепчет:
- Судаков. Начальник каторги. Главный паразит.
Гребец поворачивает шлюпку к берегу, минуя пристань. Каторжане прыгают прямо в воду и бредут по мелководью к берегу. От берега в глубь острова ведет настил из поперечно уложенных досок. Рядом с этой дорогой тянется длинный, на сваях, помост. Он приподнят над землей и отделен от общей дороги перилами. По нему шагает Судаков. Никишин оглядывает остров. Низкий песчаный берег, дощатые бараки, сторожевые вышки, двойная стена колючей проволоки.
Вправо от бараков, на пригорке, ряды свежих могил, кресты. Никишин считает их, доходит до ста, сбивается.
Партия подходит к бараку. Унтер-офицеры пересчитывают и обыскивают каторжан. Начальник каторги приветствует вновь прибывших краткой речью:
- Вы переступили сейчас порог каторжной тюрьмы, - говорит он отрывисто. - Это вам не губернская тюрьма, в которой вы жили, как в хорошей гостинице.
Железный наконечник палки вздрагивает и впивается в доски.
- Здесь каторга, понимаете - каторга. Здесь свои порядки, свои законы. Отныне вы лишены не только всех человеческих прав, но и права лаять по-собачьи…
Наконечник с хрустом крошит доску.
- Я вас так драть буду, что мясо полетит!…
Палка взлетает над его головой, и мелкая щепа брызжет из-под железного наконечника.
- Мне дана власть! Я могу пристрелить каждого из вас и как собаку выбросить в лес…
Речь окончена. Каторжан загоняют в барак. Здесь Никишин убеждается, что речь начальника каторги не пустая угроза…
Ещё в пароходном трюме от Архангельска до Мудьюга Никишин думал о Батурине, отправленном на остров с первой партией каторжан в августе прошлого года. В узелке Никишина хранилась матросская куртка, отданная ему в день расставания, в ушах стоял глухой басок матроса, певшего в камере «Вечерний звон», и его прощальное: «Может, ещё свидимся». Он торопился ему навстречу, и мрачный остров-каторга уже не казался ему таким мрачным. Одна мысль об этом меднолицем добродушном крепыше с квадратными плечами и серыми добрыми глазами вселяла бодрость. Он приготовил другу маленький подарок - пачку сигарет, раздобытую у конвойного.
И вот они встретились. Никишин издали увидел матроса, и улыбка, редкий гость в последние месяцы, осветила его лицо.
Он ждал ответной улыбки. Он подошел ближе:
- Батура, здорово!
Матрос вяло шевельнул головой.
- Ага! - протянул он равнодушно и хрипло, не узнавая товарища.
У Никишина дрогнуло сердце. Он присел на нары, беспокойно оглядел друга.
- Что же это ты, Батура? Болен? Курить хочешь? На, возьми подарок.
Никишин вытащил пачку сигарет и протянул её Батурину. Матрос чуть приподнялся, не глядя на Никишина, взял сигареты и, настороженно, пугливо оглядываясь, спрятал под доски нар. Руки тряслись. Сквозь лохмотья видны были обтянутые кожей кости. Заострившееся лицо обросло бородой. Беззубые десны были изъязвлены. Но самым страшным были глаза. Они ничего не выражали… У человека не было взгляда. Да и самого человека уже почти не было, - невозможно было поверить, что этот страшный призрак когда-то был веселым, сильным, добрым человеком…
Глава девятая. СЧЕТЫ НАЧАТЫ ЗАНОВО
Ночь. Каторжане спят тяжелым сном. В проходе между нар шагает дежурный. Холодно.
В шесть утра дежурный кричит: «А ну, вставай!»
В семь часов приносят ушат горячей воды. Начинается дележка галет. На весь день полагается четыре штуки, из них одна застревает где-то на пути между складами и бараком. Голодные глаза неотступно следят за руками того, кто делит крохотные галеты. Каторжане подбирают каждую крошку, слизывают с пальцев каждую порошинку и бережно несут галеты к себе, на дощатые нары.
Две кружки горячей воды, одна галета - на это надо немного времени. После проверки - распределение на работы.
- Мастеровщина, в мастерские.
Вызванные уходят.
- Прачки, выходи!
Трое отделяются от общей группы и бредут к бане.
- Десять человек на пристань!
- Десять на проволоку, два шага направо!
- Двадцать на дрова!