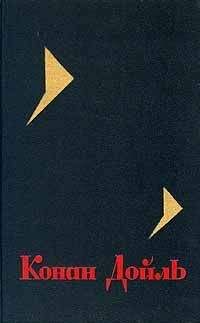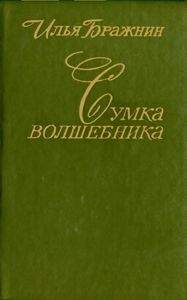Глава девятая. СЧЕТЫ НАЧАТЫ ЗАНОВО
Ночь. Каторжане спят тяжелым сном. В проходе между нар шагает дежурный. Холодно.
В шесть утра дежурный кричит: «А ну, вставай!»
В семь часов приносят ушат горячей воды. Начинается дележка галет. На весь день полагается четыре штуки, из них одна застревает где-то на пути между складами и бараком. Голодные глаза неотступно следят за руками того, кто делит крохотные галеты. Каторжане подбирают каждую крошку, слизывают с пальцев каждую порошинку и бережно несут галеты к себе, на дощатые нары.
Две кружки горячей воды, одна галета - на это надо немного времени. После проверки - распределение на работы.
- Мастеровщина, в мастерские.
Вызванные уходят.
- Прачки, выходи!
Трое отделяются от общей группы и бредут к бане.
- Десять человек на пристань!
- Десять на проволоку, два шага направо!
- Двадцать на дрова!
- Двадцать на песок!
Партии каторжан расходятся по острову. Позади бредут хмурые конвоиры.
Никишин поднимает лопату, с усилием выбрасывая песок к самому краю ямы. Песок, шурша, скатывается обратно. Никишин подхватывает его лопатой и снова бросает вверх. Десять долгих часов он воюет с песком, медленно углубляя широкую яму. А назавтра его снова приводят к ней, приказывают засыпать. Он таскает в ведре песок и молча работает, чтобы уничтожить результаты вчерашних трудов. Эта пытка бесполезным трудом ведется изо дня в день.
Четыре дня назад ему дали вместо лопаты тупой столовый нож и отправили на болото косить камыш. С ним было ещё трое каторжан. Они стояли по колено в ржавой ледяной воде и тупыми ножами старались перепилить толстые, жесткие камыши. Через час они не могли разогнуть спин. Они стояли скорчившись, дрожа и качаясь над хлюпающей бурой водой, и пилили, пилили, не зная, зачем и для чего нужно пилить. Впрочем, это и не имело смысла - камыш никому не был нужен. Его выбрасывали. Это знали все: и те, что гнали на работу, и те, что работали.
Каждый час приближает к концу, единственному и скорому. Количество крестов на пригорке растет с каждым днем. Многие смотрят на пригорок с завистью.
- Там хоть сухо, - говорит сосед Никишина.
В двенадцать они возвращаются в барак и, похлебав горячей воды, заправленной десятком крупинок риса, выходят опять на работу. В шесть часов снова бредут в барак, грызут отложенную из утренней порции галету и дуют синими губами на горячую воду.
В девять поверка. Двери барака закрываются. За дверью шагают часовые. Часовые за проволочными заграждениями. Часовые на шести сторожевых вышках. Часовыми стоят на пригорке темные кресты. Часовым уходит в небо черная башня на берегу. За нею последний часовой - море.
Над ним висит наводящий тоску вой сирены. Он ползет от маяка к гребням волн, стелется над плоским островом, пробирается в щели бараков, доводит лежащих вповалку каторжан до исступленных слез. Они натягивают на головы одеяла, затыкают уши - ничто не помогает. Сирена будет выть до утра, до тех пор пока не прекратится ночной шторм. Но шторм не утихает. Потемневшее, всклокоченное море бьется о пустынный берег. Это самый надежный часовой каторги. Лодок на острове нет. До материка по проливу, носящему название Сухого моря, семь верст.
Нет пути с острова. Но человек никогда не расстается с надеждой. Попытки к побегам начались с первых дней существования каторги, но за всё время удался только один побег, организованный матросом Вельможным. За одно подозрение в попытке бежать каторжан избивали и кидали в карцер. На пригорке за бараками вырастали новые кресты, и те, которые закапывали неудачливых товарищей, строили новые планы побегов. Медленно гнить и умирать в бараке страшней, чем лежать на пригорке… Эта мысль пришла Никишину в голову, когда он копал могилу Батурину.
Но не только о смерти думал Никишин, опуская друга в могилу. Он ещё не кончил счеты с жизнью. Наоборот, он начинал счеты наново. Он хотел жить, чтобы свести эти новые счеты с убийцами Батурина, Шахова, Ларионова… И, задумывая побег, Никишин стал тщательно и исподволь готовиться к нему, чтобы идти наверняка.
Прежде всего он решил вдоль и поперек обследовать остров. Он старался попадать каждый день на работу в разные части острова - в мастерские, на песок, на берег моря, на отдаленные батареи.
Каждый из каторжан стремился попасть либо к морю на сбор плавника, либо на сенокос, к лесу, подальше от назойливых глаз начальства, где при сговорчивом конвоире можно было и отдохнуть, при случае, на траве. И все избегали наряда на пристань в распоряжение коменданта острова Прокофьева, известного своей изощренной жестокостью. Звероподобный Судаков по сравнению с ним был элементарным животным. Капитан Прокофьев работал утонченно. Он разрушал не только телесную оболочку, что проделывал весь надзор, но добирался до самого нутра человека. Судаков избивал каторжан, Прокофьев терзал. Это он изобрел мучительную пытку бессмысленным трудом и сенокос столовыми ножами. Он не набрасывался на каторжан, как Судаков, он подкрадывался к ним исподволь, присматривался, прежде чем ударить по самому больному месту. Он владел секретом разрушать человека в медлительной, нестерпимой пытке.
Последней жертвой его был юрист Нагорный, которого на каторге звали попросту Адвокатом. Это был человек больших знаний и опыта. В Архангельск он попал лет шесть назад, будучи выслан из Петербурга за связь с социал-демократами. Отбыв три года ссылки, он прижился в Архангельске и помогал рабочим в ведении судебных дел по взысканию с лесопромышленников за полученные на заводах увечья. Этого было вполне достаточно, чтобы он попал в разряд политически неблагонадежных, тем более что в тысяча девятьсот восемнадцатом году он участвовал в работах комитета по национализации торгового флота. С приходом интервентов его забрали в тюрьму, а оттуда отправили на Мудьюг.
Девять месяцев каторги превратили его в полутруп. Несмотря на это, под лохмотьями и струпьями, в неприметном движении, во взгляде умных глаз, в остро сказанном слове вдруг открывался прежний Нагорный - добряк и умница, расшатанный, больной, но ещё не сломленный каторгой.
Прокофьев, увидя однажды Адвоката в присланной к нему на работу партии каторжан, сразу отличил его среди других. Это был материал для излюбленной, работы «на психологию». Три дня Прокофьев присматривался к Адвокату и только на четвертый начал действовать.
С утра шёл дождь - нудный, непрерывный, частый. Серое лицо каторжанина было измучено. Ему было нынче особенно скверно, его лихорадило, тянуло к людям, к теплу. И как только Прокофьев приметил это, он тотчас приступил к своим опытам. Передернув косыми плечами, он отправил каторжанина с фантастическим и бессмысленным поручением искать по острову пустые консервные банки.
Адвокат отправился на поиски. Дождь, непролазная грязь, каторжанин, в легких туфлях. Банок на острове нет… Час за часом бродит он по острову. Конвойный, получив от коменданта строжайший наказ, следует за ним неотступно. Солдат промок, он проклинает дождь, собачью службу, коменданта, родившую его мать. Единственный, на ком можно сорвать злобу, это идущий впереди каторжанин. Глаза конвойного наливаются кровью: он сыплет площадной бранью и погоняет Адвоката в спину, не давая ему ни минуты передышки…
Три часа бродит по острову Адвокат, потом возвращается к Прокофьеву и говорит:
- Банок нет. Их нигде нет… - Плечи его вздрагивают, голос едва слышен.
Прокофьев топает ногой.
- Врешь, сволочь, плохо искал! Будешь искать трое суток, пока не найдешь!
Адвокат поворачивается и уходит. Он качается. Он видит горы консервных банок. Он бросается к ним и напарывается на колючую проволоку. Он падает и раздирает о неё щеку. Конвойный бьет его прикладом по спине. Адвокат слышит глухие удары, но боли не чувствует. Ему кажется, что бьют кого-то постороннего. Он поднимается и снова бредет вперед.
И вдруг счастье улыбается ему. Он находит банку. Он бежит к дому коменданта, прижимая её к груди. На лице его радость. Он приносит эту драгоценность Прокофьеву и говорит, дрожа от возбуждения:
- Вот, нашел! Я нашел! Видите? Я нашел!
Теперь его наконец отпустят. Он еще может выправиться. Лихорадка пройдет. Он ляжет на нары и заснет. Он отдохнет. Он забудет обо всем: об оставленной в Архангельске жене, о голоде, о римском праве, которое изучал когда-то в университете, о вшах, которые съедают его заживо. Он не будет ни о чем думать. Он ляжет, вытянув истерзанные, отекшие ноги, и будет лежать, отдыхать, отдыхать…