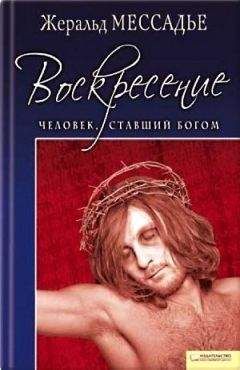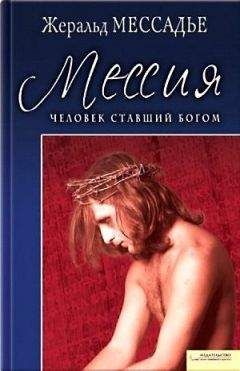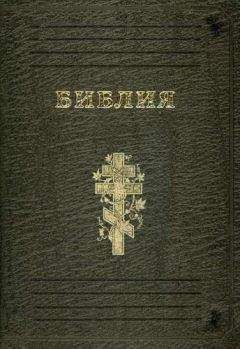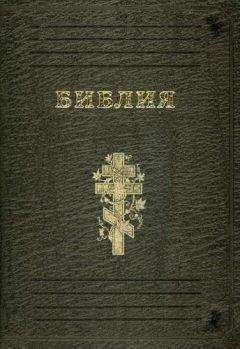– А! – только и смог выдохнуть Ирод.
Тетрарх сгорал от любовного томления, но в то же время мучился, осознавая, какую пусть наивную, но хитрую интригу плела Иродиада, явив перед ним облик своей молодости и тем самым оправдывая его предательство! Иродиада подхлестнула животные инстинкты Ирода, чтобы приблизить его к себе, поскольку Саломия была ему недоступна.
Но была ли она недоступной на самом деле?
Если бы только Иоканаан мог видеть, как танцевала Саломия! Тогда бы он понял! Возможно, тогда легкий ветерок вожделения принес бы с собой и сомнение и аскет уже не помышлял бы об оскорблениях. Ирод не должен его казнить, и тогда Иродиада попадется в свои собственные сети! Он улыбнулся, радуясь придуманной уловке. Затем он повернулся к Иродиаде и теперь улыбнулся только ей. Однако улыбка, претендовавшая стать символом любовного сообщничества, была настолько вымученной, что получилась гротескной. Ирод закашлялся.
– Немедленно приведи Иоканаана! – приказал он Манассии.
Придворный пристально посмотрел на своего повелителя, понимающе улыбнулся и бросился исполнять приказание.
«Сколько коварства, и все напрасно! – думал Ирод. – Я хочу Саломию, а не тебя, Иродиада!»
Но тут Ирод нахмурился. Если Иоканаан решит, что тетрарх собирается вступить в еще одну кровосмесительную связь, он вновь разразится проклятиями. А в случае провала своего плана Ирод должен будет казнить отшельника. Саломия бросала вожделенные взгляды на Ирода, как ее, несомненно, научили. Подумать только, два года назад, когда Ирод видел ее в последний раз, Саломия была всего лишь маленькой шалуньей, выпрашивавшей золотые безделушки! Ирод опустил глаза и, стараясь принять равнодушный вид, заскользил взглядом по слегка бронзовым ляжкам, задержался на складке, которую вышитый треугольник образовывал на ее животе, на пупке, походившем на набросок того, что скрывалось за этим треугольником, на половинках граната, над которыми колыхалось жемчужное ожерелье…
Манассия вернулся. За ним шли Иоканаан и два стражника. И Ирод вновь отогнал нечестивые мысли.
Представители Синедриона раскрыли рты и, казалось, претерпевали все муки ада, пытаясь их закрыть. По зале пробежал легкий ропот. Саломия застыла на месте. Она тоже не смогла сдержать удивленного возгласа. Тетрарх обернулся, по-прежнему улыбаясь, и встретил растерянный взгляд Иродиады, судорожно сжимавшей руку кормилицы.
– Танцуй, Саломия, – приказал Ирод.
Но Саломия не шелохнулась. Она смотрела на истерзанного человека, которого вытащили из темницы, где он провел долгие месяцы, чтобы бросить в омут наслаждений, пропитанный запахами благовоний и пряностей и утопающий в томных звуках музыки, омут, где его взору открылась юная обнаженная плоть. Саломия задумчиво рассматривала тонкие члены и худое лицо Иоканаана, остов, обветшавший из-за самоуничижительной любви к Богу и сурового отказа Создателя. Парадокс столь же шаткий, как те скалы пустыни, что стоят на обломках камней. Саломия рассматривала рот, где, казалось, только и теплилась жизнь аскета, под усами полные, четко очерченные губы, налившиеся кровью из-за тяжких усилий, которые ему пришлось приложить, чтобы дойти сюда, вдыхая свежий воздух. Она беззастенчиво смотрела на темные соски на исхудавшей груди, протянула было руку к плечу аскета – и задрожала. Иоканаан тоже пристально смотрел на нее.
– Танцуй, Саломия! – снова приказал Ирод, предчувствуя, что случится непоправимое и его план не удастся.
Саломия повернула свое грустное лицо к тому, кто приходился ей дядей и одновременно отчимом. И Ирод, охваченный ужасом, понял, о чем она думала. Она открыла для себя, что перед ней человек, голова которого поставлена на кон.
«Нет! – мысленно воскликнул смертельно напуганный Ирод. – Нет!»
Она влюбилась в него! Небольшой шум, раздавшийся сзади, заставил тетрарха оглянуться. Это встала с трона Иродиада. Тревога исказила черты ее лица, сделала их уродливыми.
– Танцуй, Саломия! – приказала сводня-мать дочери.
Девочка неуверенно сделала шаг вперед. Потом повернулась спиной к владыке и стала танцевать для Иоканаана. Только для него она пустила в ход все свое обаяние, ему являла бархат и шелк своего тела. Только для этого вонючего аскета в обрывках верблюжьей шкуры, который недоверчиво смотрел на нее. Иродиада хотела было сойти с помоста, но Ирод хриплым вскриком остановил ее. Их планы провалились.
Словно верно оценив ситуацию, музыканты заиграли внимательнее. Флейтист теперь не играл музыку, его флейта превратилась в кисть художника, который любовно обводил ею контуры тела Саломии. Два тамбурина, отбивавшие сирийский ритм в такт с половиною, словно материализовывали тревогу слушателей, действуя заодно с цимбалами, медь которых громко взвывала всякий раз, когда танцовщица поднимала руки. А тамбурины продлевали звон цимбал напряженной дробью, которую подхватывали трещотки. То пробуждавшая сладострастие, то нежно разливавшаяся, музыка превратилась в хор, описывающий действо зрителям. И эта музыка придавала сил Саломии, которая проделывала немыслимые трюки и поднимала ноги гораздо выше, чем тогда, когда танцевала для Ирода. Она изображала экстаз, полностью отдавшись танцу, чего не соизволила сделать ради Ирода. Ложь открылась, и стало очевидно: Саломия была очарована Иоканааном. Она, сама не понимая того, должна была танцевать за его голову. Но сейчас она танцевала за все его тело.
Даже Иоканаан поддался очарованию. Он весь дрожал и пристально смотрел на Саломию, приоткрыв рот, с влажными от слез глазами. Он смотрел на жизнь, танцующую ради смерти. И Иоканаан закричал. Он кричал до тех пор, пока его голос не сорвался. Музыка стихла. Саломия остановилась, и все затаили дыхание.
Саломия подошла к Иоканаану и прошептала слова, которых никто не расслышал. И никто не услышал, что отшельник ответил Саломии. Она пристально смотрела ему в глаза. Ирод приподнялся.
Представители Синедриона замерли в предчувствии скандала.
– Манассия! Пусть этому человеку немедленно отрубят голову! – срывающимся голосом приказал Ирод.
Иоканаана выволокли на террасу. Несколько мгновений – и его голова покатилась по полу.
Саломия раньше других увидела отрубленную голову. При свете факелов она долго всматривалась в лицо первого мужчины, которого полюбила.
На рассвете их голоса звучали как приглушенная молитва. Они скорее напевали, чем рассказывали, и, если бы не рыдания, прерывавшие слова, их можно было бы принять за назореев, читавших утренние молитвы.
– …И тогда мы подняли голову, лежавшую на том самом месте, где она упала, ибо стражники не осмелились до нее дотронуться. И мы закрыли ему глаза и смыли кровь, запекшуюся внизу их. Затем мы смыли кровь, омыли тело и соединили с ним голову, завернув все в саван, который мы усеяли миррой и алоэ. Мы сложили саван и зашили…
Ребенок, живший по соседству, пританцовывал и распевал песенку, повторяя один и тот же куплет. Он увидел, что на пороге дома Симона-Петра стоит Иисус в окружении незнакомцев, и улыбнулся ему. Иисус хмуро кивнул, и ребенок бросился бежать прочь.
– …Мы положили тело на мула и переправились на другой берег моря. И мы похоронили его в пустыне, недалеко от Кумрана…
Жена Симона-Петра вышла из дома через дверь, ведущую в сад» и вылила в сточную канаву помои. Ее дочери вернулись от фонтана, неся на голове кувшины с водой. Они вошли в дом, даже не взглянув ни незнакомцев, как того требовали приличия.
– Значит, ты Мессия, ибо он так говорил, – заявил предводитель семи учеников Иоканаана.
Иисус хорошо знал этого человека. Его звали Захарией. Именно он помог Иисусу прервать полет Иоканаана в ночь, проведенную в Айнон-Салиме. И именно он пришел к Иисусу несколькими неделями раньше, чтобы от имени Иоканаана задать насущный вопрос.
– Это тебя мы ждем? Или придет другой?
Другой? Кто другой? Только помутившись рассудком, можно было отрицать, что именно на него, на Иисуса, пал выбор, хотя не было ни малейшей возможности с уверенностью говорить о его мессианском предназначении. Захария походил на младшего брата Иоканаана, однако его глаза не отличались ни глубиной, ни безумством, ни бархатистостью, присущими глазам учителя. Иоканаан смотрел внутрь и вглубь, а Захария задавал миру вопросы с каким-то исступлением, возможно, и с горечью.
– Однако позволь нам тебе сказать, что ты не наш учитель. Мы останемся верны учению Иоканаана.
Иисус кивнул.
– Во всяком случае, – добавил как бы нехотя Захария, – мы не собираемся подражать твоим ученикам. Мы празднуем субботу, мы…
Иисус поднял руку, намереваясь прервать его, ибо это походило на обличительную речь.
– Я знаю, в чем вы меня упрекаете, – сказал Иисус. – А теперь оставьте меня, я в печали.
Иисус почувствовал на себе взгляды учеников Иоканаана, очень холодные взгляды. И он знал, почему они были холодными. Он ушел из пустыни, он не ходил без охраны, он пировал с богатыми людьми, он посещал женщин, он не праздновал субботу, и, разумеется, он не презирал мир. Он вызывал симпатию, поскольку лечил больных, вместо того чтобы оставить их на волю Господа. Получалось, что ему приходилось противостоять не только Демону, но и Господу. Вот почему он ответил Захарии, что слепые прозревают, а хромые ходят. Этого было бы достаточно для Иоканаана. Иоканаана, который презирал лекарей, как и фарисеи, и который считал подозрительным, если больного излечивали, поскольку это означало, что лекарь брал на себя заботы Господа и даже действовал наперекор Его воле.