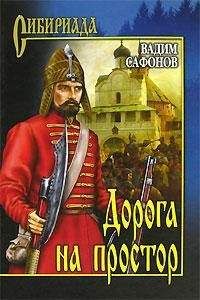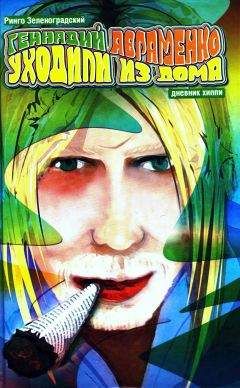Ермак плыл к Тавде, по которой шел путь через Камень на Русь. Возле Тавды когда-то остановилось, поколебавшись, казачье войско. А теперь атаман сам свернул в нее и поплыл спеша, будто что-то гнало его, не позволяя остановиться.
Он хотел встретить запоздалых гостей – московскую подмогу – у порога своей земли. Но она кончалась на Тавде. Речная дорога была глуха. И со своей горсткой удальцов Ермак решил расчистить путь для сильной царской стрелецкой рати.
Тут жили таежные люди. В чащобах властвовали вогульские кондинские князья.
За ходом рыбы и оленьих стад кочевали поселки и городки. И были юрты вешние и юрты зимние.
Но теперь солнце долго свершало свой путь на небесах, мимолетная ночь была светла, и люди манси (вогулы), как и люди ханты (остяки) на севере, забыли о зимних юртах на пестро зеленеющей земле.
Комары поджидали их у гнилой воды. Но они знали, что комаров создал злой и бессильный дух Пинегезе и что мраку не дано сейчас власти в мире. Прозрачная смола натекала и застывала на стволах сосен. Дятел не успевал засыпать ночью. Кора берез лопалась от сладкого и светлого сока, медово пахнущего луговой травой.
Вогул выходил из берестяной юрты. На руках его была накручена жильная веревка и сыромятный ремень. Он чувствовал гулкое биение своего сердца. И когда, расширившись, оно наполняло всю грудь, он запевал в лад шагам своим. Он хотел петь обо всем, что видел: о неспящих птицах, о березовом соке, похожем на жидкое солнце, о комариной зависти, о знойном тумане у реки и о том, как пахнет оленья шерсть. Но он не умел сказать этого. И слова его песни были только о том, зачем он вышел из берестяной юрты: в широкой долине – семь оленей. и один из них – мой рыжий олень.
“Убегу от тебя", – он сказал.
“Не убежишь от меня", – я сказал. подбежал я к нему и набросил ремень на шею И веревкой опутал его.
Вогулы ушли за оленями на север от Тавды, и в летних юртах ничего не знали о войне и о русских. Там знали старшего в роде, главу кочевья. Людям отдаленных кочевий было мало дела и до своих кондинских князей.
Князья же со своими воинами держали водяную дорогу. Близ реки Паченки князек Лабута осыпал стрелами казаков Ермака.
Ермак разбил и полонил Лабуту и в битве убил другого князька, по имени Печенег.
Трупы убитых атаман велел побросать в маленькое озеро.
Пошел дальше, назвав озерцо Поганым.
Вогульский князь Кошук покорился после первых выстрелов. В страхе он вынес все меха, какие нашлись у него в юртах.
Стояла удушливая жара, мга и гарь ползли по земле.
В Чандырском городке Ермак нашел шайтанщика, спросил его:
– Скажи, что станет со мной?
– Тебя никто не победит, – сказал шаман.
Ермак помолчал. Потом спросил тихо.
– А долго ль жив буду?
Шаман забил в бубен и с воем закружился. Он вертелся долго, исступленно, в страшной рогатой маске. Костяшки у его пояса звякали. На губах выступила пена. Он схватил нож и ударил себя ниже пупа, будто вспарывая живот, и тут служки связали его.
– Спрашивай! – сказали служки.
И снова спросил Ермак о сроке своей жизни.
Неживым голосом, закатив глаза, быстро заговорил шаман:
– Могучие медведи будут служить тебе. Никто не станет против тебя. Хана привяжешь к стремени. Дети и дети детей увидят седой твою голову. Ермак слушал, скучая, выкрики шамана, похожие на позвякивание костяшек.
Дети и дети детей… Где они? Вот лежит связанный человек и, пророчествуя, льстит и лжет новому русскому сибирскому хану, как льстил и лгал, верно, прежним татарским ханам, трясясь за свою жизнь. На губах его не просохла пена, его пришлось скрутить, чтобы он в исступлении не порешил себя, а он лежит и цепляется за свое гнилое ложе, чтобы отвратить смерть. Разве так страшна она? Разве так дорога жизнь?
Человек покосился глазом – веревки мешали ему повернуться – и вдруг сказал внятно:
– А через Камень, хотя и думаешь, не пойдешь. И дороги нет. А поворотишь, дойдя до Пелыма.
Горбясь, вышел Ермак из жилища шайтанщика.
Он ехал сюда затем, чтобы встретить рать Болховского на пороге, как гостеприимный хозяин. Только затем. Что ж иное могло побудить его свернуть в Тавду, в ту Тавду, мимо которой он проплыл два года назад?
Большими шагами он дошел до воды. И тотчас, по его знаку, взмахнули весла.
Ночи уже стали темными, когда казаки добрались до городка Табара. Там, на взгорье среди болот, Ермак круто оборвал путь; долго и тщательно собирал ясак. Время было позднее: самая пора положить конец пути.
Атаман сложил собранное в ладьи. И вдруг, не щадя людей, не давая им отдыха, поплыл, заспешил в Пелым.
Пелымское княжество укрывалось в лесах и топях; в нем росла вещая лиственница, которой приносили человеческие жертвы.
Отсюда, из Пелыма, князь Кихек ходил громить строгановские слободки. Но сейчас грозного Кихека и след простыл. Смиренно встречали Ермака пелымские городки.
Вода уже остыла, облетала листва, птичьи стаи проносились на юг, и хвоя поблекла.
И все же Ермак медлил в пелымских местах. Он выспрашивал жителей о стрелецких полках – и еще об одном: о том, как из Пелыма пройти на Русь. Птицы, вылетавшие из пелымской тайги на позднем солнечном восходе, садились в полдень в Перми Великой.
А спрошенные жители говорили, что сейчас нет пути через Камень.
Но путь еще был.
Только обратного пути не будет…
Ермак же все колебался и медлил. И казаки роптали, заждавшись атаманского знака.
Богдан Брязга, пятидесятник, нежданно попросился у побратима отпустить его через Камень.
– Ты, Богдан?
– С Москвы-то не слыхать… не слыхать ничего. И Гроза-атаман позамешкался.
Думал и молчал Ермак. Брязга сказал:
– Москва мне что, братушка. Я и без тех калачей, сам ведаешь, сыт. – И не заговорил – сиповато зашептал: – Сине там. Живая вода. Кровь наша, братушка! Я живо. Глянуть только последний разочек… Весточку о нас подам – и сюда в обрат!
И после того, как ушел Брязга, Ермак еще стоял в Пелыме. Только в сентябре он круто повернул к Иртышу.
Проезжая в южном Пелыме и в Табарах мимо городков, жители которых знали земледелие, он по-хозяйски собрал ясак не шкурами, а хлебом – на долгую зиму…
То была четвертая зима после ухода из Руси.
В землянке Гаврилу Ильина ожидала татарка. Она была молчалива. Он глядел на ее жесткие косички, свисающие из-под частой сетки из конского волоса, на смуглые худые ее щеки и на глаза, притушенные тусклой поволокой, – он знал, что они иногда зажигались для него диким огнем. Стены землянки завешивало бисерное узорочье. Сидя на дорогих шкурах, накиданных казаком, женщина кутала в пестрое тряпье его детей и пела им древние степные песни о батырах Чингиза.
Бурнашка Баглай ходил, сменяя что ни день пестрые халаты, – они смешно вздувались на его непомерном животе и болтались, еле достигая до колен.
– Гаврилка! – кричал он пискливо, подмигивая круглым глазом.
Похвалялся, что нет ему житья от крещеной остяцкой женки Акулины и русской женки Анки – так присохли, водой не отольешь.
И, чванясь, рассказывал, как проплыл Алышеев бом на пяти цепях у Караульного яра, как первым вскочил в Кашлык и сгреб в шапку ханские сокровища.
Впрочем, никто не видал ни женки Акулины, ни женки Анки, которая была будто бы в числе привезенных Кольцом с Руси.
Начальный атаман сперва оставил за собою ханское жилище. Но неприютно стало ему за частоколом, в пустоте оголенных стен, в путанице клетушек-мешочков. Он переселился в рубленное из еловых бревен жилье кого-то из мурз или купцов. Там жил один.
Когда Ильин вошел к нему, он сидел опухший, с налитыми жилами у висков под отросшими, спутанными, в жестких кольцах волосами. Он поглядел на вошедшего. Пол был залит вином.
Потом долго не ночевал в том жилье. С двумя сотниками Ермак объезжал Иртышские аулы. Вернувшись, осмотрел косяки коней, пороховые закрома, кузни, мастерские. Разминая мышцы, сам брался за тяжелый молот. Приплыв на плоту по высокой осенней воде к островку, травил зайцев в кривом сосняке на гривах. Русаки, забежавшие сюда еще по прошлогоднему льду и ожиревшие за лето, петляли и, обежав круг, останавливались, глядя на человека круглыми выпуклыми бусами глаз.
Казалось, всячески он отвращался от покоя.
Когда же снова призвал Ильина к себе в избу, оттуда пахло нежилым, прогорклым. Стыдясь, закрывая лицо, допоздна убиралась в избе татарка Ильина.
Сам же он часто ночевал у Ермака.
Он стал как бы ближнем при атамане.
В том году тревожно жили люди на Иртыше. Гонцы в высоких шапках скакали из степей. Они привозили недобрые вести о Кучуме, о Сейдяке, о конских седлах в степи, о коварстве двоедушных мурз. Казаки спали в одежде, сабля под головой. Их осталось совсем мало.
Иван Кольцо в который раз вспоминал за чаркой о том, что видел. Широка Русь. Сотни посадов, тысячи сел. И народ в селах и посадах неисчислимый: мужики, бабы.